Быт американцев в 20 годы 20 века. Роль государства в экономике и социальных отношениях
ХХ столетие в сознании очень многих людей вошло в историю в качестве "Американского века". Но отношение к стране, давшей имя ХХ в., во всем мире неоднозначно, равно как противоречив и неоднозначен сам американский исторический опыт. Примером крайностей и противоречий является и восприятие США современным российским обществом. Впрочем, так было не всегда: еще 15 лет назад наше отношение к Америке было весьма гомогенным и остро критическим.
Уже в первой половине ХХ века можно увидеть массу подтверждений того самого "Американского века". К началу прошлого века в США бурными темпами развиваются экономика и новые технологии. Страна вступила в стадию "организованного капитализма". Ни в одной европейской стране монополии не были так могущественны, как в США. Проходит внушительная рационализация американского хозяйства. Развиваются новые способы управления, такие как фордизм. Возникает кризис 1929-1933 гг., который пошатнул не только национальную экономику США, но и экономики всего мира. И, наконец, "Новый курс" Ф. Рузвельта, который явился ключевым при вываде Соединенных Штатов из кризиса.
Именно эти пункты я и собираюсь подробнее рассмотреть в своем реферате - рационализация американского хозяйства, фордизм, кризис 1929-1933 гг., «новый курс» Ф. Рузвельта.
Рационализация американского хозяйства
В 1924 г. Соединенные Штаты Америки, как и другие страны капиталистического мира, вступили в период временной частичной стабилизации капитализма. Важнейшими признаками этого периода были экономический подъем, рост промышленного производства и торговли, техническое переоборудование предприятий, укрепление власти буржуазии, ослабление рабочего и демократического движения. В США все основные проявления частичной капиталистической стабилизации сказались с гораздо большей силой и четкостью, чем в странах Западной Европы. Прежде всего Соединенным Штатам значительно быстрее удалось преодолеть экономические потрясения, вызванные последствиями первой мировой войны и кризисом 1920-1921 гг. Уже в конце 1922 г., достигнув предкризисного уровня промышленного производства, они вступили в полосу промышленного подъема, тогда как Англия, Франция и Германия добились относительной стабилизации экономики только в 1924 г.
Экономический подъем в США продолжался почти семь лет, до середины 1929 г., и был весьма значительным: общий объем промышленного производства в США в 1929 г. превысил уровень предкризисного 1920 г. на 32%. Правда, поступательное развитие американской экономики в период капиталистической стабилизации 20-х годов не носило постоянного характера. Дважды, в 1924 и в 1927 гг. оно прерывалось частичнымиспадами. Но обa они были кратковременными и сравнительно неглубокими, и каждый раз экономический подъем в США возобновлялся с новой силой.
Интенсивный промышленный подъем в США в 20-е годы объяснялся громадным усилением американского империализма в период мировой войны, выдвижением этой страны в число сильнейших капиталистических держав. Превращение США в центр финансовой эксплуатации мира позволило монополистической буржуазии извлекать гигантские прибыли. С 1923 по 1929 г. включительно чистые прибыли американских монополий составили в общей сложности 50,4 млрд. долл., т. е. в 1,5 разабольше, чем в годы первой мировой войны.
Располагая огромными средствами, американские монополии проводили массовое обновление основного капитала, оснащали предприятия новейшей техникой, строили новые заводы и фабрики. На этой основе был сделан крупный шаг в развитии важнейших отраслей тяжелой промышленности. За 1923-1929 гг. выплавка стали в США возросла с 49 млн. до 61,7 млн. т, добыча нефти - с 732 млн. до 1007 млн. баррелей, а производство электроэнергии - с 71,4 млрд. до 116,7 млрд. кВт-ч. В целом же по сравнению с довоенным уровнем промышленное производство США увеличилось к концу 20-х годов на 72%.Быстрые темпы экономического развития страны в годы относительной капиталистической стабилизации дали монополистической буржуазии США огромные преимущества перед буржуазией других стран. Известно, что экономика Великобритании переживала в 20-е годы явный застой, Франция по темпам экономического роста значительно отставала от Соединенных Штатов, а Германия только еще вступала на путь ускоренного восстановления своего экономического потенциала, резко ослабленного ее поражением в первой мировой войне. Особо благоприятное положение, создавшееся тогда для США, привело к резкому увеличению их удельного веса в мировой экономике. К концу 20-х годов Соединенные Штаты давали 48% промышленного производства капиталистического мира. Они производили промышленной продукции на 10% больше, чем Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония, вместе взятые.
Особенно быстро развивались новые отрасли промышленности, которые оборудовались по последнему слову науки и техники. Наиболее ярким примером явился бурный рост автомобильной промышленности. Крупные автомобильные заводы были построены в США еще в начале XX в. Но лишь в 20-е годы американская автомобильная промышленность по-настоящему стала на рельсы массового производства. В 1929 г. производство автомобилей в стране увеличилось до 5337 тыс., что примерно в 11 раз превысило довоенный уровень. Производственные мощности автомобильной промышленности в конце 20-х годов давали возможность еще большего увеличения выпуска продукции: весной 1929 г. в отдельные дни с конвейеров американских автомобильных заводов сходило до 25 тыс. машин.
Результатом таких необычайно высоких темпов развития автомобильной промышленности было быстрое проникновение автомобиля в жизнь Америки. К концу 20-х годов в Соединенных Штатах эксплуатировалось в общей сложности 26,7 млн. автомашин, в том числе 23,1 млн. легковых. Это было намного больше, чем во всех остальных странах мира. Массовое производство и постепенное удешевление автомобиля способствовали его распространению среди довольно широких слоев населения: в 1929 г. на тысячу жителей США приходилось 189 легковых автомашин. Автомобиль стал в 20-е годы поистине символом американского «процветания».
Развитие автомобильной промышленности в США было связано в первую очередь с именем Генри Форда, крупного конструктора и организатора, ставшего в XX в. владельцем одной из гигантских автомобильных «империй». В 1908 г. на фордовских заводах началось изготовление знаменитой «модели Т», получившей затем широкую известность во всем мире под названием «форд». За 20 лет, с 1908 по 1927 г., было выпущено около 15 млн. автомашин этой марки, после чего фордовские заводы были переведены на производство другой, более комфортабельной модели. В 20-е годы массовый выпуск автомобилей, кроме компании Форда, начали еще две крупные фирмы - «Дженерал моторз» и «Крайслер».
В 1929 г. на долю этой «большой тройки» приходилось 83% всего производства автомобилей в Соединенных Штатах. Стремительное увеличение выпуска продукции на заводах Форда, а затем и других фирм было достигнуто за счет усиленной рационализации производства. Она включала, с одной стороны, техническое переоборудование предприятий, увеличение их энерговооруженности, широкую механизацию производственных процессов, а с другой - внедрение стандартизации, массовое изготовление типовых деталей и последующую их скоростную сборку на конвейерных линиях. Повышение производительности, а еще более интенсивности труда обеспечивало значительное увеличение выработки на каждого рабочего. В 1923-1929 гг. она выросла в среднем на 43%. Это позволяло капиталистам уменьшать число рабочих, оставлять на конвейерных линиях только самых сильных и выносливых, платить им за более производительную и, главное, гораздо более интенсивную работу несколько повышенную заработную плату и все равно иметь экономию за счет резкого сокращения общего числа занятых. Таким образом, капиталистическая рационализация производства усиливала эксплуатацию одних рабочих и выбрасывала на улицу других. И в том и в другом случае она так или иначе оборачивалась против пролетариата.
Столь же быстро развивались и другие новые отрасли американской промышленности: электротехническая, химическая, производство синтетических материалов, радиопромышленность. Рост энерговооруженности и внедрение новой техники создавали основу для значительного увеличения производства и в некоторых других отраслях экономики. В конце 20-х годов в США было электрифицировано около 70% фабричных станков. Как и в автомобилестроении, высокие темпы роста производства в ряде отраслей тяжелой промышленности в годы капиталистической стабилизации в немалой степени обеспечивались усиленной интенсификацией труда рабочих.
В годы частичной капиталистической стабилизации еще более ускорился процесс урбанизации и индустриализации США. Общая численность населения страны за 1920-1930 гг., по официальным данным 14-го и 15-го цензов, возросла с 105,7 млн. до 122,8 млн., т. е. на 16%. При этом городское население увеличилось за 10 лет с 54,2 млн. до 69 млн. (на 27%), тогда как прирост сельского населения шел неизмеримо медленнее: число сельских жителей увеличилось с 51,5 млн. до 53,8 млн., т. е. всего лишь на 4,5%. В результате такого резкого несоответствия в темпах прироста удельный вес городского населения за 1920-1930 гг. повысился с 51,3 до 56,2%, в то время как доля сельского населения снизилась с 48,7 до 43,8 %.
С особой быстротой росло население важнейших индустриальных районов. С каждым годом увеличивалось количество крупных городских агломераций, включавших большие города, окружавшие их пригороды и практически сливавшиеся с ними города-сателлиты. Уже в 1920 г. в Соединенных Штатах было 58 таких обширных урбанизированных районов, в которых жило около 36 млн. человек, т. е. треть населения страаы. К 1930 г. число этих крупных городских агломераций достигло 97, а их суммарное население увеличилось до 55 млн., составив уже около 45% населения США.
Все более растущий уровень урбанизации и индустриализации Соединенных Штатов на протяжении 20-х годов нашел отражение и в изменении структуры самодеятельного населения страны. Общая его численность увеличилась за 1920-1930 гг. с 42,2 млн. до 48,7 млн. человек. Этот рост шел прежде всего за счет быстрого увеличения числа рабочих, занятых в промышленности, строительстве и на транспорте (с 17 млн. до 19,3 млн.), а также числа лиц, занятых в торговле, финансовых учреждениях и сфере обслуживания (с 8,8 млн. до 14 млн.), в то время как численность самодеятельного сельскохозяйственного населения сократилась (с 11,1 млн. до 10,5 млн.).
Манипулируя данными об экономическом подъеме в США, буржуазная пропаганда, вдохновляемая официальным Вашингтоном, усиленно распространяла тезис о прочности и незыблемости стабилизации. В ежегодном послании президента Кулиджа конгрессу о положении страны в декабре 1925 г. провозглашалось, что Америка вступила «в эру длительного всеобщего процветания». Славословия в честь «просперити» достигли апогея в конце 20-х годов. Виднейшие деятели обеих партий, особенно лидеры правящей республиканской партии, на все лады твердили о наступлении «вечного процветания», о «ликвидации кризисов», об успехах в деле «искоренения бедности». В августе 1928 г. в одной из предвыборных речей Г. Гувер торжественно возвестил: «Америка сейчас ближе к полной победе над бедностью, чем когда-либо в истории любой страны мира... Мы еще не достигли этой цели, но если у нас будет возможность и дальше продолжать ту же политику, которая проводилась в течение последних восьми лет, мы с божьей помощью скоро приблизим тот день, когда бедность навсегда будет изгнана из нашей страны» .
На взгляд поверхностного наблюдателя картина экономической ситуации в США к концу 20-х годов была очень оптимистичной. Результатом промышленного подъема было новое увеличение национального дохода США. За 1923-1929 гг. он возрос с 74,3 млрд. до 86,8 млрд. долл., т. е. на 17%. Но его распределение было чрезвычайно неравномерным. Львиная его доля присваивалась небольшой горсткой монополистов. В 1929 г. на долю крупной буржуазии, составлявшей всего лишь около 1%) самодеятельного населения США, приходилось 14,5%) национального дохода страны. 513 миллионеров получали доход, равный суммарной годовой заработной плате 1 млн. рабочих. Но все же кое-что перепадало и на долю мелкой буржуазии и верхушечных слоев рабочего класса. Увеличение доходов и широкое распространение системы продажи в рассрочку создавали для этих групп населения довольно значительные возможности для приобретения иногда за наличный расчет, а чаще в кредит автомобилей, радиоприемников, холодильников, пылесосов, стиральных машин и другой бытовой техники.
Двадцатые годы были отмечены также колоссальным ростом стоимости акций. За пять лет, с декабря 1924 г. по октябрь 1929 г., акции, котировавшиеся на нью-йоркской бирже, увеличились в цене с 27 млрд. до 87 млрд. долл., т. е. более чем втрое. Неудивительно, что к концу 20-х годов в стране началась настоящая биржевая вакханалия. В нее были втянуты миллионы американцев, которые обращали свои сбережения на покупку ценных бумаг, надеясь, что безостановочный рост стоимости акций в условиях «вечного процветания» сделает их богачами.
Лидеры делового мира США своим авторитетом стремились подкрепить эти призрачные надежды. Так, председатель финансового комитета фирмы «Дженерал моторз» Дж. Рэскоб в 1929 г. вполне серьезно утверждал, что если каждый рабочий и служащий будет экономить по 15 долл. в неделю и регулярно приобретать на эти средства наиболее солидные акции, то через 20 лет он будет располагать капиталом в 80 тыс. долл. «По моему убеждению,- заключал Дж. Рэскоб,- у нас в стране каждый не только может, но и обязан стать богатым». Многие рядовые американцы, загипнотизированные подобной перспективой легкого обогащения, склонны были верить всему, что говорилось в эти годы о «блестящем будущем» американского капитализма. Но обстановка в стране отнюдь не подтверждала эти оптимистические прогнозы. Стабилизация капитализма в США, так же как и в других капиталистических странах, проходила в условиях общего кризиса капитализма и поэтому была временной, частичной и непрочной. Об этом свидетельствовала прежде всего чрезвычайная неравномерность развития различных отраслей промышленности. При быстром росте ряда новых отраслей тяжелой индустрии наблюдался застой, а иногда даже и падение производства в таких традиционных сферах экономики, как добычаугля, судостроение и большинство отраслей легкой промышленности.
Прирост промышленного производства в отраслях, изготовлявших предметы первой необходимости (текстильная, обувная, пищевая и т. д.), даже в самые лучшие годы «просперити» был лишь чуть выше прироста населения. Во второй половине 20-х годов обозначилось значительное сокращение жилищного строительства. Еще более неблагоприятным было положение в угледобывающей промышленности. В 1923-1929 гг. добыча угля в США сократилась с 658 млн. до 609 млн. т, т. е. на 8%, а число рабочих, занятых в угольных шахтах, упало с 864 тыс. до 654 тыс., или на 23 %. Но наиболее тревожным симптомом, обнаружившимся к концу 20-х годов, было сокращение масштабов обновления основного капитала. Если в 1924 г. расходы на новое капитальное строительство составляли 76% всех частных капиталовложений, то к 1929 г. их доля сократилась до 35%. Все это означало, что во многих традиционных отраслях промышленности США, особенно в тех, которые непосредственно были связаны с потребительским спросом, признаки перепроизводства сказались значительно раньше и интенсивнее, чем в быстро прогрессирующих новых сферах экономики.
Важными показателями непрочности капиталистической стабилизации 20-х годов были также постоянная недогрузка производственного аппарата и хроническая массовая безработица. Даже в конце 20-х годов, в наиболее благоприятный период «просперити», производственные мощности промышленности были загружены в целом примерно на 80%, а в ряде отраслей недогрузка производственного аппарата достигала 25-30%. Число безработных в США, по самым скромным оценкам, колебалось на протяжении 1924-1929 гг. от 1,5 до 2 млн.
Наконец, признаком непрочности капиталистической стабилизации в Соединенных Штатах было неблагоприятное положение сельского хозяйства. После первой мировой войны оно вступило в новый этап своей капиталистической эволюции, подготовленный быстрым ростом сельскохозяйственного производства в конце XIX - начале XX в. в результате победы фермерского пути развития капитализма в сельском хозяйстве США. Окончательное завершение длительного периода раздачи гомстедов за счет земель государственного фонда, полное истощение ресурсов «свободных» земель Запада, пригодных для заселения и обработки - все это способствовало тому, что от экстенсивных форм капиталистического земледелия американское фермерство стало переходить к интенсивным методам ведения хозяйства, к применению машин, искусственных удобрений, новейших агротехнических приемов. Уже в 1920 г. в сельском хозяйстве США использовалось 246 тыс. тракторов и 4 тыс. комбайнов. Развитие капитализма вширь, долгое время бывшее характерной особенностью эволюции американского сельского хозяйства, сменилось развитием капитализма вглубь.
Однако аграрный кризис, начавшийся в 1920 г. и не преодоленный в течение всего периода 20-х годов, надолго нарушил нормальные условия воспроизводства в сельском хозяйстве. Правда, наиболее острая фаза аграрного кризиса, характерная для 1920-1923 гг., сменилась в 1924-1928 гг. его несколько смягченной фазой. Но и тогда ни сельскохозяйственные цены, ни фермерские доходы так и не достигли докризисного уровня. На протяжении второй половины 20-х годов валовой доход американского фермерства держался на уровне 13-14 млрд. долл., тогда как в 1919 г., до начала длительного аграрного кризиса, он составлял 17,9 млрд. долл.
Падение цен тяжелее всего отразилось на положении мелких и средних фермеров, хозяйство которых стало хронически убыточным. Поэтому разорение и вытеснение мелкого производства в земледелии шли в период частичной капиталистической стабилизации с невиданной ранее быстротой. Только за 1925-1929 гг. было принудительно продано с молотка за неуплату долгов и налогов 547 тыс. ферм (8,7% общего числа). Огромные размеры приобрело в 20-х годах бегство фермеров в города. Поскольку американская промышленность переживала в то время значительный подъем, части переселенцев удалось получить работу. Однако большинство их так и не смогли найти себе занятия. Поэтому многие, истощив свои скудные средства, вынуждены были возвратиться обратно.Тем не менее бегство фермеров в города проходило более высокими темпами, чем их возвращение в сельские районы, в результате чего чистая убыль фермерского населения США составила за 1920-1930 гг. 6,3 млн. человек. Разорение мелкого и среднего фермерства шло тогда настолько быстро, что к концу 20-х годов очередная перепись впервые в истории США зафиксировала абсолютное сокращение общей численности фермерского населения (с 32 млн. в 1920 г. до 30,5 млн. в 1930 г.) и числа фермерских хозяйств в стране (соответственно с 6448 тыс. до 6289 тыс.).
Аграрный кризис значительно ухудшил и положение капиталистических слоев фермерства. Сильное падение цен уменьшило прибыльность их хозяйства. Необходимость приспособления к неблагоприятным условиям сельскохозяйственного рынка требовала резкого снижения себестоимости производства путем коренного технического переоборудования сельского хозяйства. Но это было доступно только сравнительно немногочисленным группам фермерской буржуазии. К концу 20-х годов в сельском хозяйстве США применялось уже 920 тыс. тракторов и 61 тыс. комбайнов, что свидетельствовало о значительном росте его технической вооруженности, однако, по данным сельскохозяйственной статистики, только 13,5% фермерских хозяйств были оснащены в то время тракторами и всего лишь около 1 % - комбайнами.
Начавшийся в 20-е годы процесс индустриализации сельского хозяйства США, его перехода из мануфактурной стадии в стадию машинного производства происходил в гораздо менее благоприятных условиях, нежели в промышленности. Общая историческая отсталость сельского хозяйства, которая еще более обострилась с вступлением страны в эпоху империализма, новое усиление эксплуатации фермерства монополиями - все это обусловило необычайно глубокий и затяжной характер кризиса перепроизводства в сельском хозяйстве. Гнет финансового капитала в условиях аграрного кризиса особенно тяжелым бременем лег на плечи мелких и средних фермеров. Но господство монополий ощутимо сказывалось и на положении сельскохозяйственной буржуазии. Громадная дань, взимаемая ими со всего фермерства, в том числе и с его капиталистической верхушки, ограничивала возможности капиталистического накопления, отвлекала от производительного использования крупные финансовые средства и на долгие годы затянула процесс преодоления аграрного кризиса.
Таким образом, в ряде важных отраслей американской экономики во второй половине 20-х годов все более отчетливо сказывались явления перепроизводства. Это постепенно расшатывало устои американского «процветания». По сравнению со странами Западной Европы признаки непрочности стабилизации капитализма в США были выражены значительно слабее. Но все же и для этой крупнейшей и наиболее богатой капиталистической страны было характерно вопиющее противоречие между растущими производственными возможностями экономики и относителыю низкой покупательной способностью широких масс населения.
В годы частичной капиталистической стабилизации в США произошло некоторое повышение заработной платы рабочих, но оно было сравнительно небольшим. По данным правительственной статистики, среднегодовая номинальная заработная плата рабочих, занятых в обрабатывающей промышленности, строительстве и на транспорте, увеличилась за 1924-1929 гг. с 1519 до 1620 долл., т. е. всего на 6,5%, а заработная плата рабочих горнодобывающей промышленности даже сократилась (с 1703 до 1526 долл.). Между тем, по исчислениям американских экономистов, для удовлетворения лишь основных потребностей семьи из четырех человек при тогдашнем уровне цен необходимо было располагать доходом не менее 2 тыс. долл. в год. Недаром президент Кулидж в одном из своих посланий конгрессу в 1926 г. вынужден был признать, что «большинство рабочих не разделяют плодов просперити». Но их не разделяли и многие другие группы трудящегося населения городов и ферм. По весьма умеренным оценкам, даже в 1929 г., в самый разгар «процветания», доходы 60% американских семей были ниже прожиточного минимума. Это убедительно свидетельствует о непрочности капиталистической стабилизации 20-х годов.
Фордизм
Фордизм - одно из социально-экономических направлений. Название происходит от имени Генри Форда и связано с его деятельностью.
В основе фордизма лежит точка зрения, согласно которой общественное благосостояние и высокие корпоративные прибыли могут быть достигнуты за счёт высоких зарплат рабочих, что позволит последним покупать продукцию, которую они производят. Слово «Фордизм» стало использоваться в начале XX-го века для описания практик применяемых на автомобильных заводах Генри Форда. Неотъемлемую часть этой системы составляет конвейер.
Фордистская система производства имеет 4 отличительных ключевых элемента:
- Разделение труда - процессы разбиты на небольшие операции, которые может выполнять низкоквалифицированный персонал. Высококвалифицированные кадры заняты управлением, разработками и совершенствованием процесса.
- Высокая стандартизация узлов, агрегатов и запчастей.
- Организация не вокруг станков с определёнными свойствами, а станки размещены в необходимом для производства порядке.
- Лента конвейера связывает различные стадии процесса.
Вся система нацелена на удешевление производимого продукта (автомобиля).
Кризис 1929-1933 гг
Полномасштабная рецессия в США началась в августе 1929 года, за два месяца до биржевого краха (объём строительства начал сокращаться ещё в 1926 году). В феврале 1930 года на начало кризиса отреагировала ФРС, снизив ставку прайм рейт с 6 до 4 %. Кроме того, был осуществлён выкуп государственных облигаций с рынка для поддержания ликвидности. В следующие два года ФРС не делала почти ничего. Секретарь казначейства Эндрю Меллон считал, что необходимо дать возможность рынку самостоятельно произвести необходимые корректировки пропорций и цен.
В июне 1930 года в США был принят так называемый тариф Смута-Хоули, вводящий 40−процентную пошлину на импорт в целях защиты внутреннего рынка. Эта мера стала одним из основных каналов передачи кризиса в Европу, так как сбыт продукции европейских производителей в США был затруднён.
В конце 1930 года вкладчики банков начали массовое изъятие вкладов, что привело к волне банкротств банков. В результате началось абсолютное сжатие денежной массы. Вторая банковская паника происходит весной 1931 года. Все эти месяцы власти никак не реагируют на набирающее обороты экономическое цунами. ВВП в 1930-1931 годы падает соответственно на 9,4 и 8,5 %, а уровень безработицы поднимается с 3,2 % на начало 1930−го до 15,9 % к концу 1931 года.
В 1932 году ВВП сократился на 13,4 %, а всего с 1929 года - на 31 %. Уровень безработицы в 1932 г. увеличился до 23,6 %. За три с небольшим года с начала кризиса лишились работы более 13 млн американцев. Промышленные запасы потеряли 80 % их стоимости с 1930 года, а сельскохозяйственные цены упали на 53 % с 1929 года. За три года обанкротились два из каждых пяти банков, их вкладчики потеряли 2 млрд долларов депозитов. Денежная масса с 1929 года сократилась по номиналу на 31 %.
Марш безработных Торонто, Канада
На фоне небольшого расширения денежной базы (с 6,05 млрд долларов в 1929 году до 7,02 млрд в 1933−м) денежная масса резко упала - с 26,6 млрд до 19,9 млрд долларов. Волны банковских банкротств подорвали доверие людей к финансовым институтам, сбережения лихорадочно изымались с депозитов и переводились в наличную форму. Выжившие банки, в свою очередь, избегали выдачи новых кредитов, предпочитая хранить деньги в максимально ликвидной форме. Таким образом, банковский мультипликатор резко снизился и кредитно-депозитная эмиссия банков была фактически парализована. Желание и банков, и населения держать деньги в наличном виде, несомненно, резко усилило рецессию.
Естественный прирост населения в США в период Великой депрессии резко снизился.
В 1932 году в Детройте полиция и частная охранная служба Генри Форда расстреляла шествие голодающих рабочих, которые проводили голодный марш. Было убито пять человек, десятки ранены, неугодные были подвергнуты репрессиям.
«Новый курс» Ф. Рузвельта
"Новый курс" – название экономической политики, проводимой администрацией президента США Франклина Делано Рузвельта с 1933 года с целью выхода из масштабного экономического кризиса (Великая депрессия), охватившего США в 1929‑1933 годы.
Вступая в должность 4 марта 1933 года, Франклин Рузвельт в своей речи обещал применить самые энергичные меры по борьбе с кризисом. Правительство Рузвельта сразу приняло неординарные меры - 9 марта начала работу специальная сессия конгресса, длившаяся более 3 месяцев и принявшая ряд важнейших законов, серьезно повлиявших на экономику США и заложивших основу "Нового курса". Этот период получил название "первые 100 дней". Важнейшей задачей было спасение и стабилизация финансовой системы США. В основу политики нового курса легли меры по усилению государственного регулирования экономики, дефицитного финансирования бюджета, важнейшие институциональные преобразования.
Банковская сфера
Одним из первых шагов Рузвельта было объявление 6 марта "банковских каникул" на неделю, во время которой были закрыты все банки США. Далее с целью "очистки" банковской системы была проведена тотальная ревизия всех банков. Разорившиеся банки попали под управление государственной Реконструктивной финансовой корпорации (РФК). Устойчивые банки получили право на дальнейшую работу. В результате произошло укрупнение банковской системы – большинство банков, признанных "здоровыми", были крупными.
С целью оздоровления ситуации был принят ряд важных законов. Одним из важнейших стал закон Гласса‑Стигалла ‑ Закон о создании Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation) от 16 июня 1933 года. Коммерческим банкам запрещалось работать с ценными бумагами, это право получали специализированные финансовые организации ‑ тем самым были снижены риски, которым подвергались средства вкладчиков банка. С целью пресечения привлечения средств по повышенным ставкам, характерных для проведения высокорискованных операций, был введен запрет на выплату процентов по текущим счетам, проценты по депозитным счетам подвергались регулированию Федеральной резервной системы (ФРС). Был регламентирован биржевой кредит.
Была создана Федеральная корпорация страхования депозитов (ФКСД) – банки отчисляли взносы в страховой фонд, в случае банкротства ФСКД санировала банк и выплачивала вклады в пределах установленного законом лимита на вклад в одном банке.
Промышленность
Меры, направленные на нормализацию производства нашли свое отражение в Национальном законе о восстановлении промышленности (НИРА), принятом 16 июня 1933 года. В основу этого закона был взят план, предложенный в 1931 году президентом компании фирмы "General Electric" Джерардом Своупом, одобренный Торговой палатой США. Закон предписывал всем ассоциациям предпринимателей вырабатывать кодексы "честной конкуренции", определявшие условия, объем производства, минимальный уровень цен. При этом с предприятий, принявших такие кодексы снимались антитрестовские меры воздействия. Такой расклад был выгоден крупным монополиям, которые фактически определяли условия производства и сбыта по своим отраслям. Было составлено около 557 основных и 189 дополнительных кодексов, охвативших более 95 % рабочих. Принятие кодексов способствовало принудительному картелированию промышленности.
Статья 7 НИРА содержала меры социального характера ‑ она вводила ограничения на продолжительность рабочей недели и предписывала обязательный минимум оплаты труда. В ней также признавалось право организации профсоюзов и заключение коллективных договоров.
Контроль за реализацией программы НИРА возлагался на созданную президентом Национальную администрацию восстановления.
Социальная сфера
Для борьбы с безработицей, а также с целью улучшения материального положения населения были предприняты следующие меры: прямая помощь безработным, введение системы страхования по безработице и организация общественных работ.
Так, 12 мая 1933 года на оказание помощи безработным было выделено около 0,5 млрд долларов, всего было израсходовано свыше 4 млрд долларов. Большинство безработных получению пособий предпочитало общественные работы. На основании рекомендаций НИРА была создана Администрация общественных работ (PWA), занимавшаяся в основном крупными строительными проектами, доказывая тем самым, что "деньги не шли на ветер". Общий объем работ, выполненных по ее проектам составил около 3,3 млрд. долл.
Для безработной молодежи весной 1933 года правительство организовало лагеря, в которых молодые люди работали и жили в течение шести месяцев, имея полное обеспечение. Заработная плата составляла около 30 долларов, из них 25 долларов направлялись семье работающего.
В 1935 году был принят закон, предусматривавший страхование по старости и безработице. Несмотря на низкий уровень выплат и нераспространение закона на значительные слои работающих (сельское хозяйство, государственные служащие и т.д.) закон имел революционное значение. Значительным шагом второго этапа реформ стало принятие 5 июля 1935 года Национального акта о трудовых отношениях, так называемого закона Вагнера. Закон гарантировал права трудящихся на организацию, заключение коллективного договора, организацию стачек. Следующим этапом развития социальных прав было принятие в июне 1938 года закона о справедливых условиях труда (ФСЛА), предусматривавшего обязательный минимум оплаты труда 25 центов в час, введение полуторного тарифа при превышении продолжительности рабочей недели (44 часа, с 1940 года – 40 часов), ограничивался детский труд.
Жилищное строительство
В годы Великой депрессии правительство уделяло значительное внимание развитию жилищного строительства, в частности ипотечного кредитования. Так в 1933 году была создана первая компания, выпустившая облигации для финансирования ипотеки – Ссудная корпорация владельцев жилья. В 1938 году создана Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA), находящаяся под контролем государства. Начальный капитал компании был сформирован за счет средств бюджета.
Сельское хозяйство
В мае 1933 года Рузвельт подписал билль о помощи фермерам, который предлагал меры по борьбе с кризисом в сельском хозяйстве, связанным с падением цен на продукцию и массовым разорением фермеров. Основная его часть представляла закон о регулировании сельского хозяйства, известный как закон ААА (the Agricultural Adjustment Act).
Главная его идея – ликвидировать "ножницы" между ценой, затрачиваемой фермером на производство продукции, и той, которую он получал при ее реализации. Чтобы сбалансировать спрос и предложение и поднять цену сельхозпродуктов, часть земли изымалась из сельскохозяйственного оборота, за что фермерам выплачивались субсидии. В первую очередь эта мера повысила конкурентоспособность крупных фермерских хозяйств, получивших основную массу премий за сокращение посевного фонда.
В дальнейшем был предпринят ряд мер, направленный на помощь более мелким фермерам. В 1935 году была создана Администрации по переселению, преобразованная в начале 1937 году в Администрацию по охране фермерских хозяйств. Эти учреждения осуществляли финансовую помощь мелким фермерам для покупки ферм и их переселения на более качественные земли, стимулировало развитие кооперативов для сбыта продукции, приобретения оборудования.
В 1936 году был принят закон о сохранении плодородия почв и о квотах для внутреннего рынка. Согласно его положениям, премии выплачивались тем хозяйствам, которые сокращали площади под культурами, истощающими почвы, а также за меры по улучшению почв. Необходимость этих мер была вызвана сильной засухой 1934 года, сопровождавшейся пыльными бурями.
Принятый в 1938 году закон о регулировании сельского хозяйства вводил концепцию "всегда нормальной житницы". Цель новых начинаний была прежняя – восстановление паритета цен, однако методы достижения были уже другими – продукция не уничтожалась, а сохранялась, выплаты производились в счет еще не проданной продукции.
В мае 1935 года правительство создало Администрацию по сельской электрификации (REA), организовавшую работы по электрификации сельской местности.
Заключение
Рассмотрев следующие пункты: рационализация американского хозяйства, фордизм, кризис 1929-1933 гг., «новый курс» Ф. Рузвельта, можно смело сказать, что да, ХХ век действительно вошел в историю в качестве "Американского века". Видя какой рывок сделало американское общество хотя бы за несколько десятков лет, становится очевидной неоспоримость вышеуказанного факта. Даже не смотря на провалы в виде глубокого экономического кризиса, нашим соседям с американского континента удалось преодолеть эту разруху в достаточно короткий срок. Анализ событий тех лет показывает, что крайнюю решимость народа США быть первой деражвой в мире во всем и всегда.
September 6th, 2012Оригинал взят у radulova в Повседневная жизнь американцев в 1940-х
Витрины магазина в городе Салем, штат Иллинойс в 1940 году. Три фунта колбасы - 25 центов. Средний доход американцев в 1940 году, как утверждается , составлял около $515 в год, или около 25 центов в час. То есть, если вы работали час, вы могли купить для семьи 1,4 кг колбасы. Средний доход домохозяйства в Америке сегодня составляет около $48,000 в год. В большинстве случаев в семье два работника, в отличие от 1940-х, так что, вероятно, средний доход на душу населения составляет около $24,000, или около $12 в час. Колбаса стоит примерно $4 за фунт. То есть, и сегодня среднестатистический американец может купить 3 фунта (1,4 кг) колбасы за один час работы. Как и 72 года назад
. Вот это стабильность.

Семейный ужин.


Трактор в поле. Штат Айова, 1940 год.
Отец и дочь слушают радио. Калифорния, 1940 год.
Кухня. В 1940-е годы в холодильниках уже появились морозильные отделения, также продавались обособленные морозильные шкафы. Кстати, к 1962 году холодильники имели: в США - 98,3 % семей, в Италии - 20 %, в СССР - 5,3 % семей.

Очень маленький холодильник.
1940 год, пивнушка, штат Техас. Ковбойские шляпы обычно носили фермеры.
Заготовки на зиму, 1940 год.
1940
1940
Женщина играет на пианино для группы людей. Дата съемки: 1940. Фотограф: George Strock
Магазины в Чикаго, 1940 год. Экономика США в 1940-м постепенно выходила из Великой депрессии. Кстати, Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, ощущалась и в других государствах. Но в русском языке термин «Великая депрессия» часто употребляется лишь в отношении экономического кризиса в США. Параллельно используется термин мировой экономический кризис.
1940 год, семейное фото.
Сельская Америка, на ярмарке. Семейный автомобиль, 1940 год, Нью-Мексико.
На той же ярмарке. Отец и дочь.
Та же сельская ярмарка, 1940 год.
Пляж, 1941.
Фото: Charles Cushman.


Дети играют в Чикаго, штат Иллинойс, 1941 год.
Пасхальное воскресенье 1941 года в Чикаго. Мальчик приоделся, идет в церковь.
Пацаны в отцовском пикапе, 1941 год.
Дети играют в войну, Вашингтон, 1941.
Маленькие магазинчики, 1942 год, штат Небраска.
Нью-Йорк, 1942.
Кафе-мороженое, 1942 год.
Женщина занимается сборкой двигателя бомбардировщика B-25. США во Второй мировой войне участвовали с 1941 года. В июне 1944 года был открыт Западный фронт в Европе. США потеряли во Второй мировой войне 418 000 человек. Совесткому Союзу Америка начала помогать с 1941 года.
Ленд-лиз - государственная программа, по которой США передавали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты.
Женщина работает на военном заводе, 1942 год.
1943 год. Всего поставки по ленд-лизу составили около $50,1 млрд (эквивалентно примерно $610 млрд в ценах 2008 года), из которых $31,4 млрд было поставлено в Великобританию, $11,3 млрд — в СССР, $3,2 млрд — во Францию и $1,6 млрд — в Китай. 
Небраска, 1942.

Нью-Йорк, 1942 год. Девочка смотрит на витрину магазина с религиозными атрибутами.
1942 год. Электрическое приспособление для того, чтобы выжимать белье.
Мама и дочь моют посуду в своем доме. Коннектикут, 1942 год.
Техас, 1943.
Сельские школьники. Штат Техас, апрель 1943 года.
Автостанция. Мемфис, штат Теннесси, 1943 год.
Голливуд, Лос-Анджелес, 1944 год. Эти фото дают хорошие представление о реальной моде в середине 40-х годов США.

Показательно так же и то, что фактически рост американского уровня жизни застопорился, без учёта технологического прогресса и инфляции прямой и скрытой американцы не стали за 70 лет реально много богаче. Фактически же это означает, что эти годы их нация работала не сколько на своё развитие, сколько на всякие абсурдные авантюры политиков, вроде внешневоенных вылазок и фактически сводились к обогащению узкой олигархической группы.
И это не иллюстрация чудовищной системы капитализма, напротив, раньше в США этого капитализма было существенно больше. Однако теперь доля госсобственности в национальной экономике существенно увеличилась, достигая почти половины ВВП и в этой мутной воде приближенные к политическому истеблишменту группы ловят рыбу. В условиях чистой рыночной конкуренции подобное социальное расслоение затруднительно и сколь угодно огромные накопленные сверхдоходы после смерти основателя бизнес-империи тут же будут профуканы избалованными наследниками. Система государственного интервенционизма позволяет этим империям жить дольше, ограничивая конкуренцию и сидя на госзаказах и субсидиях, при минимальных личных талантах и ограничиваясь лишь политическими связями.
Культурные противоречия 1920-х годов
Согласно общепринятому мнению, в «ревущие двадцатые» американцы отошли от традиций, поддавшись соблазну новых идеалов и безграничной терпимости. Однако следует отметить, что далеко не все общество оказалось в плену у неортодоксальных тенденций. Были и те, кто испытывал отвращение перед излишествами «модернизма» и страх перед его опасностями. Второе десятилетие XX века ознаменовалось как движением за перемены, так и упорным сопротивлением этим переменам.
Первая мировая война пошатнула веру американцев в необратимость прогресса. Многие интеллектуалы усвоили более скептический взгляд на вещи. К этому их подталкивали и открытия современной науки, которые свидетельствовали о ненадежности человеческого опыта, стойком влиянии иррационального начала на психику человека, относительной (а не абсолютной, как считалось прежде) природе истины и надуманном (а не естественном) характере мирового порядка. Все эти новые идеи нашли свое отражение в американской литературе того периода, проникнутой горечью обманутых надежд и страхом перед коллективным безумием.
Мотивы безысходности и сомнения в прежних ценностях явственно звучат в творчестве тех писателей, которые покинули родину, дабы взглянуть на американскую культуру со стороны и составить о ней верное представление. Эзра Паунд, Т. С. Элиот, Эрнест Хемингуэй, Кэтрин Энн Портер, Джон Дон Пассос, Эдна Сент-Винсент Миллэй и другие принадлежат к поколению послевоенных писателей, которое, с легкой руки Гертруды Стайн, стали называть «потерянным поколением». Хемингуэя и Паунда можно по праву назвать революционерами американской литературы. Критически переосмыслив литературные традиции своих предшественников, они решительно отказались от витиеватого, нравоучительного стиля, господствовавшего в конце XIX века Хемингуэй и Паунд выработали собственную – простую и немногословную – манеру письма, которая больше соответствовала окружавшему их миру – миру, где благородные идеалы и величественный строй мысли утратили свое значение. Творчество не только этих авторов, но и всех писателей-эмигрантов было проникнуто чувством потерянности и дезориентации. Так, главным мотивом поэмы Элиота «Бесплодная земля» (1922) стал мотив одиночества и разрушения: «Что там за корни в земле, что за ветви растут из каменистой почвы?» Первые романы Хемингуэя «Фиеста» (1926) и «Прощай, оружие» (1929) представляют собой пронзительное описание изломанных войной человеческих жизней. Как говорит рассказчик из второго романа, «То, что считалось славным, не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагские бойни.»
Пока одни писатели оплакивали утраченные иллюзии, другие успели испытать и выразить разочарование по поводу идеалов и навязчивых идей новой эпохи. В одном из своих первых сборников рассказов «Сказки века джаза» (1922) Ф. Скотт Фитцджеральд отдавал должное послевоенному процветанию: «Этот великий город поражал невиданным ранее великолепием, тем изобилием, который принесла с собой война». Однако уже в последующих произведениях, особенно в романе «Великий Гэтсби» (1925), он показал бесплодность лихорадочной погони за материальным благополучием и блестящими приманками нового времени. Разворачивая печальную историю жизни Гэтсби, человека, поднявшегося из самых низов на вершину общества, автор подводил читателя к пониманию, что само по себе богатство не гарантирует счастья, оно лишь иссушает душу человека, лишая его жизненных сил. Созданному Элиотом образу опустошенной земли Фитцджеральд противопоставил собственную «пустыню» – мусорную свалку, забитую гниющими излишками современного производства.
Тема бесплодности и разочарования возникает в американской литературе тех лет. Одни писатели посвятили свое творчество изображению бесцельной и безрадостной жизни в маленьких американских городках. К числу этих авторов относятся Синклер Льюис со своими романами «Главная улица» (1920) и «Бэббит» (1922), Шервуд Андерсон с книгой «Уайнсбург, штат Огайо» (1919) и Г. Л. Менкен с «Американским Меркурием». Мелочность интересов, ограниченное самодовольство и разрушенные мечты – вот что скрывается под обманчивым спокойствием американской глубинки. Андерсон так отзывался о своей героине из «Уайнсбурга»: «В ней жило сильнейшее беспокойство. Было тревожное стремление к переменам, какому-то большому, важному сдвигу в жизни». Уильям Фолкнер избрал темой внутреннюю драму патриархального Юга. Начав с романов «Сарторис» и «Шум и ярость» (1929), он написал целую серию произведений, действие которых разворачивается в вымышленном округе Йокнапатофа. Яркие образы и экспериментальная манера изложения позволили писателю добиться глубокого психологизма в изображении незамысловатой жизни маленького городка на Миссисипи. Его персонажам приходится вести нелегкую борьбу с вековыми традициями, расовыми предрассудками и семейными неурядицами.
Фрэнсис Скотт Фитцджеральд
Двадцатые годы ознаменовались также расцветом афроамериканской культуры. В художественных и критических произведениях, в таких сборниках как «Новый негр» и журналах, подобных «Кризису», представители «гарлемского ренессанса» исследовали историю и культуру чернокожего населения Америки. В своем романе «Домой, в Гарлем» (1925) Клод Маккей изображал жизнь афроамериканцев на промышленном Севере. В противоположность ему Джин Тумер посвятил поэму «Тростник» (1923) описанию быта сельскохозяйственного Юга. Известная негритянская писательница Зора Нил Херстон привнесла в литературу антропологические изыскания в области обычаев и нравов афроамериканского населения. Оторванная от сельских корней и заброшенная в городскую, университетскую жизнь, она чувствовала себя, как «черный мешок, битком набитый всякой всячиной и забытый под стеной. Так он и стоит в компании с другими мешками – белыми, красными и желтыми». Стихи Лэнгстона Хьюза, бросавшие вызов традиционным формам и условностям общественного мнения, стали гимном его черным собратьям. В стихотворении «Негр говорит о реках» (1920) Хьюз провел своеобразную ревизию африканского наследия. «Тоскливый блюз» (1923) посвящен страданиям и многотерпению афроамериканцев.
Черные исполнители внесли неоценимый вклад в мировую музыку, создав собственный, неповторимый стиль, получивший название джаза. Корнями джаз уходил в негритянские музыкальные формы – спиричуэлс, регтайм и блюз. Как правило, джазовые произведения начинались с простой мелодии и устойчивого ритма. Но это было только начало, настоящая игра начиналась позже. Очень часто слушатели уже через несколько минут не узнавали первоначальную вещь: благодаря синкопированной манере исполнения начальный ритм менялся до неузнаваемости, певец отходил от лирической мелодии – либо через использование характерного пения-«ската», либо через бесконечное расширение музыкальной фразы. Ключевым приемом в джазе служила сугубо индивидуальная, непредсказуемая импровизация на заданную тему. Такие исполнители, как «Джелли Ролл» Мортон, Луис Армстронг, Флетчер Хендерсон, Дюк Эллингтон и Бесси Смит наполнили музыку неожиданными сюрпризами и новыми открытиями.
В то время как в одних отраслях американской культуры шел непрерывный эксперимент и поиск, так называемая популярная культура принимала все более стандартизированный вид. И хотя в отдельных регионах еще можно было наблюдать своеобразные местные обычаи, по всей стране уже распространялся однородный, национальный стиль, язык и набор ценностей. Массовая культура Соединенных Штатов – продукт индустрии развлечений, которая по мере своего развития все более властно диктовала американцам, что им читать, смотреть и слушать.
Тысяча девятьсот двадцатые годы отмечены ростом массовых тиражей таких периодических изданий, как «Сатердей ивнинг пост», «Домашний очаг», «Колльерс»; все они общались с читателем в одной и той же наставительной манере. А тут еще оформилось новое начинание под названием «Клуб популярной книги», редакция которого ежемесячно давала рекламу какого-либо литературного произведения, а позже рассылала его подписчикам по всей стране. Члены клуба догадывались, что книжки, которые они получают по почте, – не слишком рафинированное, зато стопроцентно популярное чтиво: те же самые обложки украшали книжные полки миллионов американцев во всех уголках необъятной страны.
Но если люди охотно читали одни и те же романы, то их, несомненно, можно приобщить и к другим унифицированным видам развлечений. Наверное, именно так рассуждали создатели коммерческого радио в начале 1920-х годов. Во второй половине десятилетия уже появились первые широковещательные радиостанции. Эн-би-си (1926) и Си-би-эс (1927) транслировали по всей стране программы, обеспечивая слушателей стандартной смесью из музыки, драмы, комедии и новостей.
Если же американцам приходило желание поразвлечься вне дома, то, как правило, они шли не куда-нибудь, а в ближайший кинотеатр. Там им показывали фильмы, которые во множестве плодили «фабрики грез» американской киноиндустрии. И хотя концентрировалось это производство на юге Калифорнии, финансирование шло из Нью-Йорка. Крупные киностудии не только выпускали фильмы, но и владели целой сетью кинотеатров, в которых демонстрировались фильмы. Одно из изобретений киноиндустрии – система «звезд», в рамках которой с популярными исполнителями заключались контракты на съемки в фильмах, специально подогнанных под их амплуа. Сборы еще больше возросли с появлением звукового кино. Первый такой фильм «Певец джаза» появился в 1927 году, когда Эл Джолсон обратился к миллионам зрителей с исторической фразой: «Вы не то еще услышите». К концу десятилетия кино приобрело небывалую популярность в Америке. Достаточно сказать, что только за одну неделю кинотеатры посещало столько американцев, сколько их всего проживало в стране.
Однако далеко не всем пришлась по вкусу стандартизированная продукция «средств массовой информации». Страстное поклонение одних сталкивалось с неприятием и осуждением других – тех, кто надеялся сдержать и даже, по возможности, устранить современные тенденции, исподволь разрушающие традиционную систему американских ценностей.
Некоторые из этих критиков возлагали вину за беспорядок в стране на группы «неамериканского» населения. Сторонники «нативизма» считали, что все чуждые нравы идут от пришлых граждан – тех, кто не принадлежит к исконной, белой, сельской, протестантской Америке. Истинным, «стопроцентным» американцам следует сплотиться, чтобы противостоять иностранной угрозе и вернуть себе инициативу в собственной стране. Пыл нативистов еще больше подогрел проходивший в 1920–1921 годах суд над двумя иммигрантами, итальянскими анархистами Николой Сакко и Бартоломео Ванцетти, обвинявшимися в убийствах и грабежах. Однако подлинные страсти разгорелись в 1928 году, когда в борьбу за президентский пост включился кандидат от демократов Эл Смит. Мало того что этот человек был ирландцем (он родился в Нью-Йорке в простой иммигрантской семье, политического опыта набирался в Таммани-Холл), так он еще – о ужас! – принадлежал к католической церкви.
В своей борьбе нативисты прежде всего использовали легальные средства, в число которых входило законодательное ограничение иммиграции. Принятый в 1924 году закон о национальном происхождении запрещал въезд в Америку выходцам из Восточной Азии и значительно усложнял иммиграцию из южных и восточных областей Европы. Для этих групп были установлены квоты, базировавшиеся на результатах переписи населения от 1890 года – то есть еще до того, как основная масса евреев, итальянцев и славян приехала в Соединенные Штаты. Сверх того нативисты использовали и нелегальные методы, не гнушаясь прибегать к помощи белых островерхих балахонов – куклуксклановцев. Именно их усилиями это движение, испытавшее некоторый спад после 1870-х годов, снова возродилось в 1915 году в южном штате Джорджия. В том далеком году на экраны страны вышел знаменитый фильм Д. У. Гриффита «Рождение нации», воспевавший чистоту расы и систему вековых американских ценностей. Он оказался весьма ценным идеологическим подспорьем для куклуксклановцев, которые развернули форменный террор не только против афроамериканцев, но и против евреев, католиков и вообще иммигрантов. Вопреки традиционным представлениям, движение широко распространилось не только на патриархальном Юге, но и на развитом промышленном Севере. В середине 1920-х годов эта организация уже охватывала 4 млн человек. Неизвестно, чем бы закончилось дело, но лидеры Ку-клукс-клана изрядно скомпрометировали себя, засветившись в ряде скандалов финансового и сексуального характера. Увы, они стали жертвами тех самых пороков, которые столь страстно порицали в современниках. После этого авторитет организации заметно упал, равно как и сократилось число ее членов.
Кампании за восстановление былых нравов Америки сопровождались попытками реформировать само общество. В январе 1920 года была принята Восемнадцатая поправка к конституции, которая запрещала «производство, транспортировку и продажу опьяняющих напитков» на всей территории США. Этот закон защищал традиционные устои протестантских, в основном сельских, непьющих жителей от культурного вторжения пьющих иммигрантов, преимущественно горожан и католиков по вероисповеданию. Кроме того, запрет представлял собой явное продолжение прогрессистской реформы 1920-х годов – «благородный эксперимент» по искоренению потребления вредоносного, как в социальном, так и в экономическом смысле, алкоголя.
К сожалению, эта поправка, прогрессистская по своему происхождению, была вполне республиканской по исполнению. Федеральные чиновники, склонные экономить на всем, так и не сумели обеспечить достаточных фондов для достойного проведения закона в жизнь. В результате при общем снижении уровня потребления алкоголя количество злостных нарушений принятого закона росло с каждым днем. Если прежде производство крепких напитков было легальным, то теперь оно стало в основном подпольным. Банды городских хулиганов быстро освоили бутлегерство, применив «рационализаторские» методы, почерпнутые из крупного бизнеса. Здесь также происходили слияния и укрупнения, борьба за рынки сбыта и устранение конкурентов при помощи организованной преступности. Подобные неожиданные (и нежелательные) последствия привели к тому, что пришедшие в 1933 году к власти демократы поспешили отменить «сухой закон».
В русле общей борьбы с «модернистскими» тенденциями в 1920-е годы возник и окреп фундаментализм – воинствующее консервативное направление протестантизма. Отрицая либеральную теологию, его сторонники объявили войну «социальному евангелию», которое пыталось примирить традиционные библейские догматы с социальными и экономическими реальностями современности. Фундаменталисты настойчиво доказывали, что мир должен подчиняться Священному Писанию, а не переделывать его под себя. Главным камнем преткновения стало дарвиновское учение об эволюции, которое, по мнению фундаменталистов, отрицало божественное происхождение мира и тем самым ставило под сомнение непогрешимость Библии. Некоторые южные штаты запретили преподавать в школах крамольное учение. В 1925 году внимание всей страны привлекло судебное разбирательство в Теннесси, которое затеял учитель Джон Т. Скоупс. Ставший судебным прецедентом «Обезьяний процесс» вылился в эмоциональный, не всегда корректный спор между наукой и религией. По сути, он олицетворял собой трагедию нации, не желавшей признавать современные тенденции и упорно цеплявшейся за прошлое.
Из книги История России XX - начала XXI веков автора Терещенко Юрий ЯковлевичГЛАВА V СССР в период реконструкции. Конец 1920-х – начало 1940-х годов Реконструкция (перестройка) экономики СССР и советского общества началась в конце 1920-х годов по инициативе ЦК ВКП (б). Она была обусловлена как объективными потребностями страны приумножить общественный
Из книги Апокалипсис XX века. От войны до войны автораГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИТАЛИИ 1920–1922 ГОДОВ Все было почти как в Германии: полиция и армия старались быть «нейтральными». Группы добровольцев, вооруженных и безоружных, схватывались на улицах и площадях. Уже 15 апреля 1919 года социалисты напали на редакцию газету Б. Муссолини
Из книги Расправа над СССР - предумышленное убийство автора Буровский Андрей МихайловичСоветско-польская война 1918–1920 годов Как только возникла восстановленная Польша, польские коммунисты и анархисты тут же подняли свои восстания. Первые хотели создать свое государство; другие – уничтожить вообще государство как таковое. И те и другие опирались на
Из книги История самолётов, 1919–1945 автора Соболев Дмитрий АлексеевичГЛАВА 1. САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ 1920-х И НАЧАЛА 1930-х ГОДОВ Первая мировая война послужила мощным стимулом к развитию авиастроения во всем мире. Уже в первые месяцы боевых действий самолет показал себя как высокоэффективный вид военной техники, и правительства воюющих стран стали
Из книги Тайные информаторы Кремля. Нелегалы автора Карпов Владимир НиколаевичРазведчик 1920-х годов Современная Служба внешней разведки России обладает хорошо поставленной системой подготовки кадров, укомплектована грамотными, квалифицированными сотрудниками. Совершенно по-иному в этом отношении выглядела внешняя разведка нашей страны в
Из книги Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран автора Ленель-Лавастин АлександраГлава первая БУХАРЕСТ КОНЦА 1920-Х ГОДОВ: РОЖДЕНИЕ МОЛОДОГО
Из книги Поэзия и поэтика города автора Брио Валентина1. Вильнюс в литовской поэзии 1920 - 1930-х годов Поодаль виднеется тяжелая кафедральная колокольня, возведенная на остатках одной из башен Нижнего замка. Надстройка позднейшего периода (верхние этажи с украшениями) несколько исказила весьма воинственный характер этого
Из книги Европа судит Россию автора Емельянов Юрий ВасильевичГлава 15 Третья Гражданская война 1920-1922 годов и переход к мирному строительству Победа Советской республики в Гражданской войне 1918-1920 годов особенно впечатляла тем, что она была одержана страной, оказавшейся в экономической блокаде и находившейся в состоянии полного
Из книги Предсказания катастроф автора Хворостухина Светлана Александровна Из книги Санкт-Петербург. Автобиография автора Королев Кирилл МихайловичЛегенда о Чкалове, конец 1920-х годов Михаил Водопьянов, Марк Галлай Ближе к концу 1920-х годов Ленинград оказался во многом на периферии общественной жизни, не в последнюю очередь из-за утраты столичного статуса: все сколько-нибудь значимые события тех лет связаны прежде
автора Галушко Кирилл Юрьевич Из книги Украинский национализм: ликбез для русских, или Кто и зачем придумал Украину автора Галушко Кирилл Юрьевич Из книги Об Илье Эренбурге (Книги. Люди. Страны) [Избранные статьи и публикации] автора Фрезинский Борис Яковлевич Из книги Украинский национализм: ликбез для русских, или Кто и зачем придумал Украину автора Галушко Кирилл Юрьевич6. Идеологический реванш 1920-х годов: консерваторы-гетманцы и В. Липинский Двадцатые годы ХХ в. оказались чрезвычайно плодотворными в концептуальном, теоретическом смысле для украинского обществоведения, политологии и истории. Прекращение практической политики и
Из книги Украинский национализм: ликбез для русских, или Кто и зачем придумал Украину автора Галушко Кирилл Юрьевич7. Идеологический реванш 1920-х годов: националисты-радикалы и Дмитро Донцов Другое направление правой идеологии - плод творчества Дмитра Донцова (1883–1973), идеолога «чинного [действующего] национализма». В рассказе о нем мы будем опираться в основном на диссертацию Ирины
Из книги Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда автора Чубаров Игорь М. » или « ».Это десятилетие характеризовалось не только как эпоха джаза, эпоха промышленного переворота и небывалого расцвета, это было время небывалого подъёма преступности, порождённой "сухим законом". В те годы, наверное, каждый бродяга мечтал стать миллионером- и некоторые действительно становились ими.
Вместе с этим это и время расцвета гангстерских войн в Америке. Это - время Аль Капоне и Лаки Лучано, именно тогда были созданы многие известные и по сей день кланы и заложены основы современной американской мафии.


Атлантик Сити, Нью Йорк или Чикаго - огромные города, куда приезжают отдыхать миллионеры, члены знатных фамилий из Европы, именитые промышленники со всего мира. Сюда слетаются, как мотыльки на огонёк, жаждущие богатства и славы молодые парни и девушки, эмигранты оседают здесь в бедных кварталах, ожидая своего часа, когда они смогут перебраться на центральные улицы, на блеск и роскошь престижных кварталов, или же заработать состояние, не упустив своей удачи. Молодые люди заполняли ночные клубы и танцевальные залы. В результате того, что во время войны многим девушкам и женщинам пришлось заменить на рабочих местах мужчин, появилось большое количество работающих независимых и эмансипированных дам. Началась «эпоха женщин». Пожалуй, сложно найти другой такой исторический период, в который за столь небольшой временной промежуток произошли такие изменения в облике дам и в стиле их поведения. Процесс перемен усугубила первая мировая война, после которой мужчин оказалось меньше, а значит, женщины должны были привлекать к себе внимание более откровенными способами.
После Первой мировой наступило своеобразное похмелье: люди, пережившие ужасы танковых обстрелов и газовых атак, потерявшие родных, охотно забыли про тяготы войны и окунулись в красивую сказку. Сверкающая и гламурная эпоха джаза стала временем перерождения Америки во всех сферах - от экономики до моды.
Наиболее влиятельными модельерами в это время были , начинает работать .
Большое влияние на мужскую моду этого времени оказали такие личности как герцог Виндзорский и актеры Рональд Колман, Рудольф Валентино.
В моде воцарился роскошный и элегантный стиль Art Deco. В Европе и Штатах этому резкому стилю удалось стать по-настоящему тотальным, охватить все — от архитектуры до аксессуаров. При этом новая мода не была слащавой. Наоборот: геометрические линии ознаменовали конец женственного модерна. Внешне однородный, ар деко вобрал в себя множество направлений: элементы ориентальной и африканской культур, античные и ренессансные мотивы, французский придворный стиль XVIII столетия.

В женскую моду вошли струящиеся, расшитые бисером платья. Некоторые платья были подчеркнуто женственными: зефирными и воздушными, как наряды Мадлен Вионне — летящие полупрозрачные одеяния из шелкового муслина. Или туалеты, созданные Жанной Ланвен, чьим фирменным знаком считалась юбка-колокол. Однако эпоха уже требовала другого — функциональности. Это настроение тонко уловила Коко Шанель. В экспозиции есть несколько платьев — черных, декорированных скромно, но со вкусом.

Изменившийся ритм жизни, дальнейшее проникновение в повседневную жизнь автомобиля, телефона, граммофона, новые социально-экономические условия стирали грань не только между классами, но и полами. В моду входить стиль «унисекс», правда, в то время он назывался «la garconne» (по имени романа В. Маргеритта, чрезвычайно популярного в 20-х годах). Теперь современная девушка водила автомобиль, курила, играла в теннис и гольф, ярко красила губы и глаза, носила короткую стрижку, и ночи на пролет танцевала в модных клубах. Модницы носили свободную одежду и короткие юбки (а самые отчаянные надели мужские костюмы), которые должны подчеркивать угловатость мальчишеской фигуры.
В 1920-е женщины в рамках эмансипации научились публично курить и поправлять макияж. Немудрено, что зажигалки и минодьеры превратились в роскошные безделушки, которые не стыдно достать из сумочки.

После окончания Первой Мировой войны люди поняли, что тяжелые наряды викторианской эпохи слишком неудобны. Тогда в моду вошли короткие юбки, которые вызвали настоящую сексуальную революцию - женщинам наконец было позволено появляться в приличном обществе полуголыми. Начавшиеся в 20 м году изменения к 1923 переместили талию на место бедер, заменили пышные прически на короткие, укоротил длину платьев и ввели моду на яркий макияж, который до этого был знаком проституток и артисток мюзик-холла, что частенько было одним и тем же. Такая мода коснулась даже респектабельных пожилых дам, только в более смягченном варианте.
В эти годы женщина не только показала ноги, она открыла пятку! Ранее дамы, выходя в свет, даже не думали о таком.

“Ревущие двадцатые” создали новый тип женщин - прожигательниц жизни. Их стали называть флапперами, или “хлопушками”. Она красивы, полны "апломба и независимости", увлечены спортом, обожают автомобили и многолюдные вечеринки, где как истинные флапперы наслаждаются тем, что пританцовывают под ритмы джаза с бокалом дорогущего шампанского. Многие из этих дам принадлежат к высшему обществу, но выбирают более смелый прогрессивный стиль жизни и одежды - яркий драматичный макияж и бордовый маникюр, соблазнительно облегающие, скользящие по гибкой статной фигуре наряды, и беззастенчиво глубокие декольте.
Идеал женской красоты претерпел сильные изменения, по сравнению с предыдущими эпохами. Теперь, в моде мальчишеская фигура, с плоской грудью, узкими бедрами и длинными ногами. Одежда этого периода должна была скрывать пышные формы.

Те дамы, которые не обладали хрупким телосложением, должны были носить корректирующие корсеты и грации, которые уплощали бюст и бедра. Девушки, имеющие стройную фигуру ограничивались бюстгальтером и поясом для чулок. Под короткими юбками носили панталоны «директория» с резинкой у колена или «французские» свободного кроя. Под платья надевали нижнюю рубашку длиной до колен с бретелями или короткую, похожую на жилет рубашку.

В начале 20-х годов юбки оставались довольно короткими, как и во время войны. Но позднее, кутюрье удлинили юбки. Самые длинные подолы юбок и платье достигали щиколоток. В моде были мешковатые платья до икр, которые на бедрах подвязывались поясом или шарфом. Верхняя часть платья ниспадала на заниженную талию в виде блузона или джемпера. Лиф платья был свободным, юбка у платья шилась прямой или со складками, могла быть плиссированной, вырез мог быть круглым, квадратным или V-образным. Плоский воротник лежал на плесах и имитировал шарф. Рукава у платья обычно шили длинные или ¾, с манжетами. Благодаря Коко Шанель появляются деловые и практичные платья и трикотажные костюмы.

Вечерние платья были без рукавов или на бретелях, с глубоким декольте спереди и сзади. К концу 20-х вечерние платья стали иметь длинный шлейф, боковые вставки или неровный край. Поверх платьев носили прозрачные шифоновые драпировки.
Покрой жакетов в начале 20-х слегка прилегающий, позднее прямой, однобортный или двубортный, с узкими втачными рукавами. К концу десятилетия стали встречаться костюмы тройки с пальто. В моду входят брюки.
Стиль «женщина-мальчик» также подчеркивала прическа. Длинные локоны были не в моде. Короткие волосы, завитки, чуть прикрывающие уши, пэйсы - подобные прически требовали маленькие головные уборы. Шляпки напоминали по виду горшок или ведро и плотно натягивались на голову. Они декорировались цветами, лентами. Универсальной шляпкой этого десятилетия была шапочка «клош», которая закрывала всю голову и уши.


Дамы обувались в остроносые туфли с глубоким вырезом из тонкой кожи и перепонкой, на устойчивом каблуке, с ремешками и застежками, чтобы они не слетали во время исполнения чарльстона или фокстрота, ботиночки на шнурках, сапожки. В 20-х годах появляются чулки телесного цвета, вечерние чулки перевиты золотыми и серебряными блестками.
В композиции костюма украшения начинают играть большую роль. Украшения перестают быть драгоценностями: броши, колье из искусственных материалов; искусственные цветы на головных уборах и платьях. Излюбленными украшениями 20-х становиться длинные нити жемчуга и горного хрусталя, броши и заколки, широкие браслеты, крупные серьги в геометрическом стиле, стиле модерн и арт-деко. Писк вечерней моды украшение - диадема.


В заключении стоит отметить, что увлечение спортом привело к тому, что появляется потребность в специальной спортивной одежде и многие кутюрье начинают создавать спортивные коллекции.
Мужской костюм делился на официальный и неофициальный. Мужской костюм состоял из сорочки, жилета, брюк, пиджака, галстука, шляпы, туфель. Неофициальныекостюмы носили на отдыхе, во время занятий спортом или охоты. Для официальных мероприятий по-прежнему выбирали смокинг, теперь он был двубортным, имел четыре пуговицы и накладные карманы с обтачным верхним срезом на бедрах. Самой распространенной тканью для мужского костюма был твид. Фланель был другой популярной тканью эпохи.

Пиджаки в 20-х годах были одно и двубортные. Спортивные пиджаки, чаще шились однобортными, а пиджаки для деловых костюмов - двубортные. Пиджак имел приталенный силуэт и узкие плечи, он был свободен в груди и облегающим в бедрах.
Сорочки имели съемные жестко накрахмаленные воротнички. Такие воротнички всегда были белыми, даже если рубашка была цветная. Воротник рубашки скреплялся галстучной булавкой, которая удерживала галстук от смещения. Галстуки могли быть различных расцветок, но популярным узором была диагональная полоска.

Спинка жилета была шелковая или из подкладочной ткани, а передняя часть из той, же ткани что и весь костюм. На спинке пришивался ремешок с пряжкой для подгонки по фигуре. Во время занятий спортом гораздо удобнее было носить трикотажные жилеты. В это время набирают популярность джемперы, которые стали частью спортивной мужской одежды.
Брюки в 20-х годах стали шить гораздо шире, чем в предшествующее десятилетие. Брюки имели отутюженную стрелку и защипы в поясе. Для игры в гольф стали носить широкие бриджи, а затем брюки-гольф, которые имели широкий напуск на голени.
Спортивный костюм дополнялся кепи, деловые костюмы дополнялись фетровыми и твидовыми шляпами.
После Первой мировой войны основным видом мужской обуви стали туфли. А самой популярной моделью мужских туфель были «оксфорды», не менее популярны были «дерби», «бифролл», «баркрофт». К смокингу надевали лакированные туфли.
Яркие носки с узором носили с бриджами и брюками гольф, с деловыми костюмами носили носки темных тонов, они могли быть шелковыми или хлопчатобумажными.

Мода «ревущих 20-х» позволила людям чувствовать себя всегда молодыми и беззаботными. Но это десятилетие безудержного веселья пролетело очень быстро, ему на смену пришла Великая депрессия, которая уравняла всех.
Расшитые золотом туалеты оказались вытеснены более строгими нарядами. Блеск бриллиантов померк, ар деко навсегда ушел в прошлое.
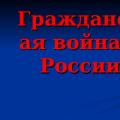 Презентация - гражданская война в россии Гражданская война в истории человечества презентация
Презентация - гражданская война в россии Гражданская война в истории человечества презентация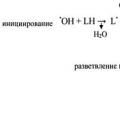 Продукты перекисного окисления липидов
Продукты перекисного окисления липидов Папка передвижка лексическая тема «Зима
Папка передвижка лексическая тема «Зима