Жизнь и приключения андрея болотова. А
Есть произведения, которые с юных лет идут с тобой по жизни рука об руку, прочно войдя в твое сердце. Они радуют, печалят, утешают и заставляют сопереживать. Именно о такой книге я хочу сейчас вам рассказать. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви » — это целый мир красивых и благородных чувств, мир добрых и смелых людей.
Читая эту повесть, каким-то внутренним чувством, понимаешь, что ее написал очень хороший человек и талантливый писатель. Поэтому такие произведения оставляют в душе светлый след, они вызывают в нас взрыв чувств, мыслей, эмоций, мечтаний и нежности. Счастливую и тонкую книгу написал Рувим Исаевич Фраерман о девочке Тане, девочке, которая грезит о далеких неведомых странах, австралийской собаке Динго. Странные мечты и фантазии тревожат ее. А еще это повесть о мальчиках Фильке и Кольке, умном и мужественном полковнике Сабанееве, печальной Таниной маме и чуткой учительнице Александре Ивановне. В общем, эта поэтичная и добрая книга, о людях хороших и благородных. И пусть им не совсем легко и просто живется. Горе и счастье, грусть и веселье чередуется в их жизни. Они отважны и отзывчивы, и когда им грустно, и когда им весело. Они всегда держатся достойно, внимательны к людям и берегут своих родных и друзей. Таня считает Фильку своим самым лучшим и преданным другом. Он добр и безхитростен, но у него отважное и горячее сердце. А дружба с Таней – не просто дружба. Это любовь. Робкая, чистая, наивная, первая…
Рувим Фраерман в «Дикой собаке Динго, или Повести о первой любви » очень точно и проникновенно рисует чувственный мир подростка, превращение девочки в девушку, мальчика в юношу. Психологически точно описывает возраст, когда душа подростка мечется в поисках чего-то непонятного, неведомого. И понимают еще вчерашние дети, что пришло время взросления, и в их мир пришло самое прекрасное, самое неповторимое чувство – первая любовь. И жаль, что для Фильки она, самая чистая, возвышенная, первая любовь к Тане, оказалась безответной. Но писатель нашел нужные слова, чтобы вызвать у своего читателя чувства сострадания к Фильке и радости за него. Да, Таня видит в нем только друга, но чистая и юная любовь к этой девочке возвышает Фильку, он чувствует и ощущает окружающую действительность по новому. А Таня полюбила Колю. Вот уж права народная мудрость – «От любви до ненависти – один шаг». Еще задолго до приезда Коли, Таня ненавидела отца, его жену и незнакомого ей мальчика. Именно к ним из семьи, как считала Таня, ушел ее отец, бросив жену и совсем маленькую дочку. И хотя Таня совсем не помнила его, ей очень не хватало папы. И вот через много лет отец Тани вместе со своей новой семьей приезжает в городок, где живут Таня и ее мама. Девочка в смятении. Она одновременно и хочет, и не хочет увидеть отца. А вот мама Тани очень надеется, что дочка сблизится с отцом и настаивает на их встречах. Таня стала ходить к Сабанеевым в гости. Ей было очень завидно смотреть на семейную жизнь отца, как он смотрит на свою жену, Надежду Петровну, шутит с Колей, племянником Надежды Петровны, мальчиком, которому Танин папа заменил отца. Таня думает, что ТАК на нее отец не посмотрит, ТАК с ней не пошутит. И сердце ее щемило от обиды. Но несмотря на это, ее очень сильно тянуло в уютную атмосферу этой семьи. А еще ее сильно задевало, что Коля не обращает на нее внимание. Он учится с ней в одном классе, сидит рядом на семейных обедах, играет в бильярд. Но Тане кажется, что она не занимает его мысли так, как он занимает ее. Таня еще не понимает, что она влюбилась в Колю, она не может распознать любовь в своих мятежных поступках. Она постоянно ссорится с Колей, насмехается над Филькой, плачет и смеется невпопад. Непросто в 15 лет понять, что же это такое с тобой происходит. И только учительница Анна Ивановна догадывается, что случилось с ее ученицей. Анна Ивановна заметила, что Таня стала какой-то подавленной. «Как часто застает она ее в последнее время и печальной и рассеянной, и все же каждый шаг ее исполнен красоты. Может быть, в самом деле любовь скользнула своим тихим дыханием по ее лицу?». Как же прекрасно сказано! Искренне и проникновенно! Мы слышим музыку слова. И хочется глубоко вздохнуть и улыбнуться, и чтобы какие-то неясные и пленительные, как и у Тани Сабанеевой, мечты прилетели и к нам. Пусть даже о дикой собаке Динго. Такова вот она сила искусства и власть слова.
Полезного вам чтения!
Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви.- М.: Оникс, 2011.- 192 с.- (Библиотека российского школьника) .- ISBN 978-5-488-02537-0
«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» является самым известным сочинением советского писателя Р.И. Фраермана. Главными героями повести являются дети, и написана она, по сути, для детей, однако проблемы, поставленные автором, отличаются серьезностью и глубиной.
СодержаниеКогда читатель открывает произведение «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», сюжет захватывает его с первых страниц. Главная героиня, школьница Таня Сабанеева, на первый взгляд похожа на всех девочек ее возраста и живет обычной жизнью советской пионерки. Единственное, что отличает ее от друзей - страстная мечта. Австралийская собака динго - вот о чем грезит девочка. Таню воспитывает мама, отец оставил их, когда дочери только-только исполнилось восемь месяцев. Вернувшись из детского лагеря, девочка обнаруживает письмо, адресованное ее матери: отец сообщает, что намеревается переехать в их город, но уже с новой семьей: женой и приемным сыном. Девочку переполняют боль, ярость, обида на сводного брата, ведь, по ее мнению, именно он лишил ее папы. В день приезда отца она идет его встречать, но не находит в портовой сутолоке и дарит букет цветов больному мальчику, лежащему на носилках (впоследствии Тане станет известно, что это и есть Коля, ее новый родственник).

Развитие событий
Рассказ о собаке динго продолжается описанием школьного коллектива: Коля оказывается в том же классе, где учатся Таня и ее друг Филька. Между сводными братом и сестрой начинается своеобразное соперничество за внимание отца, они постоянно ссорятся, причем инициатором конфликтов, как правило, выступает Таня. Однако постепенно девочка понимает, что влюблена в Колю: она постоянно думает о нем, мучительно стесняется в его присутствии, с замирающим сердцем ждет его прихода на новогодний праздник. Этой влюбленностью очень недоволен Филька: он относится к старой подруге с большой теплотой и не хочет ни с кем ее делить. Произведение «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» изображает тот путь, который проходит каждый подросток: первая любовь, непонимание, предательство, необходимость сделать тяжелый выбор и, в конце концов, взросление. Это утверждение может быть отнесено ко всем персонажам произведения, но в наибольшей мере - к Тане Сабанеевой.

Образ главной героини
Таня - это и есть "собака динго", так прозвали ее в коллективе за обособленность. Ее переживания, раздумья, метания позволяют писателю подчеркнуть главные черты девочки: чувство собственного достоинства, сострадание, понимание. Она от всей души сочувствует матери, которая продолжает любить бывшего мужа; она изо всех сил пытается понять, кто же виноват в семейном разладе, и приходит к неожиданно взрослым, здравым выводам. С виду простая школьница, Таня отличается от своих сверстников способностью тонко чувствовать, стремлением к красоте, истине, справедливости. Ее мечты о неизведанных краях и собаке динго подчеркивают порывистость, пылкость, поэтическую натуру. Характер Тани ярче всего раскрывается в ее любви к Коле, которой она отдается всем сердцем, но при этом не теряет себя, а пытается осознать, осмыслить все происходящее.
75 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПОВЕСТИ «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО, ИЛИ ПОВЕСТЬ
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» Г. 1939
Рувим Исаевич Фраерман - советский детский писатель. Родился в бедной еврейской семье. В 1915 окончил реальное училище. Учился в Харьковском технологическом институте (1916). Работал счетоводом, рыбаком, чертёжником, учителем. Участвовал в Гражданской войне на Дальнем Востоке (в партизанском отряде). Участник Великой Отечественной войны. В январе 1942 был тяжело ранен в бою, в мае демобилизован.
Был знаком с Константином Паустовским и Аркадием Гайдаром.
Более всего Фраерман известен читателю как автор повести «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939).
Вышедшая из печати в суровые для страны годы сталинских репрессий и предвоенного напряжения международной обстановки, она захватывала глубиной лирико-романтического тона в изображении свежести и чистоты первой любви, сложного мира «переходного возраста» - расставания с детством и вступления в мятежный мир юности. Привлекала авторская убежденность в непреходящей ценности простых и естественных человеческих чувств - привязанности к родному дому, семье, природе, верности в любви и дружбе, межнациональному сообществу.
История написания
Обычно Фраерман писал медленно, трудно, отшлифовывая каждую фразу. А вот «Дикую собаку Динго» он написал удивительно быстро - всего за один месяц. Это было в Солотче Рязанской области в декабре 1938 года. Стояли холодные, морозные дни. Рувим Исаевич работал с большим подъемом, делая короткие передышки на морозном воздухе.
Повесть получилась очень поэтическая, она была, как говорится, написана на «одном дыхании», хотя замысел книги вынашивался много лет. Повесть признана по праву лучшей книгой Фраермана, переведена на многие языки народов нашей страны и за рубежом - в Швейцарии, Австрии, Западной Германии. В парижском издании она названа «Первая любовь Тани». По книге был создан одноименный фильм, который на международном кинофестивале в Венеции в 1962 году был удостоен первой премии - «Золотого льва святого Марка».
В детском лагере в Сибири отдыхали друзья с детства и одноклассники Таня Сабанеева и Филька и теперь они возвращаются домой. Девочку дома встречают старая собака Тигр и старая нянька (мать на работе, а отец не живёт с ними с тех пор, как Тане исполнилось 8 месяцев). Девочка мечтает о дикой австралийской собаке Динго, впоследствии дети так её и прозовут за обособленность от коллектива.
Филька делится с Таней своим счастьем - ему отец-охотник подарил лаек. Тема отцовства: Филька гордится своим отцом, Таня сообщает другу, что её отец живёт на Маросейке - мальчик раскрывает карту и долго ищет остров с таким названием, но не находит и говорит об этом Тане, которая расплакавшись убегает. Таня ненавидит отца и агрессивно реагирует на эти разговоры с Филькой.
Однажды Таня нашла под подушкой матери письмо, в котором отец сообщает о переезде его новой семьи (жена Надежда Петровна и её племянник Коля - приёмный сын Таниного отца) в их город. Девочку переполняет чувство ревности и ненависти к тем, которые украли у неё отца. Мать пытается настроить Таню положительно по отношению к отцу.
В то утро, когда должен был приехать отец, девочка сорвала цветы и пошла в порт его встречать, но не найдя его среди приехавших дарит цветы больному мальчику на носилках (она ещё не знает, что это и есть Коля).
Начинается учёба, Таня пытается обо всем забыть, но это у неё не получается. Филька пытается поднять ей настроение (слово товарищ на доске пишет с Ь и объясняет это тем, что это глагол второго лица).
Таня лежит с мамой на грядке. Ей хорошо. Она впервые задумалась не только о себе, но и о матери. У ворот полковник - отец. Тяжёлая встреча (спустя 14 лет). Таня обращается к отцу на «Вы».
Коля попадает в тот же класс, что и Таня и садится с Филькой. Коля попал в новый для него, незнакомый мир. Ему очень тяжело.
Таня с Колей постоянно ссорятся, причём по Таниной инициативе, идёт борьба за внимание отца. Коля умный, любящий сын, он относится к Тане с иронией и насмешкой.
Коля рассказывает о встрече с Горьким в Крыму. Таня принципиально не слушает, это выливается в конфликт.
Женя (одноклассница) решает, что Таня влюблена в Колю. Филька мстит за это Жене и вместо липучки (смола) угощает её мышонком. Маленький мышонок лежит один на снегу - Таня его согревает.
В город приехал писатель. Дети решают, кто будет дарить ему цветы Таня или Женя. Выбрали Таню, она гордится такой честью («пожать знаменитому писателю руку»). Таня развернула чернильницу и облила руку, её заметил Коля. Эта сцена демонстрирует, что отношения между врагами стали теплее. Ещё некоторое время спустя Коля предложил Тане танцевать с ней на ёлке.
Новый год. Приготовления. «Придёт ли он?» Гости, а Коли нет. «А ведь совсем недавно сколько горьких и сладких чувств толпилось в её сердце при одной только мысли об отце: Что с ней? Она все время думает о Коле». Филька тяжело переживает Танину влюблённость, так как сам влюблён в Таню. Коля подарил ей аквариум с золотой рыбкой, а Таня попросила эту рыбку зажарить.
Танцы. Интрига: Филька сообщает Тане, что Коля завтра идёт с Женей на каток, а Коле говорит, что они завтра пойдут с Таней на спектакль в школу. Филька ревнует, но пытается это скрыть. Таня идёт на каток, но прячет коньки, так как встречает Колю с Женей. Таня решает забыть Колю и идёт в школу на спектакль. Резко начинается буран. Таня бежит на каток, чтобы предупредить ребят. Женя испугалась и быстро ушла домой. Коля упал на ногу и не может идти. Таня бежит к Фильке домой, садится в собачью упряжку. Она бесстрашна и решительна. Собаки вдруг перестали её слушаться, тогда девочка бросила им на растерзание любимого Тигра (это была очень большая жертва). Коля и Таня упали с нарты, но, несмотря на страх, продолжают бороться за жизнь. Буран усиливается. Таня, рискуя жизнью, тянет Колю на нарте. Филька предупредил пограничников и те вышли на поиски детей, среди них был и их отец.
Каникулы. Таня и Филька навещают Колю, который отморозил себе щеки и уши.
Школа. Слухи о том, что Таня хотела погубить Колю, затащив его на каток. Все против Тани, кроме Фильки. Ставится вопрос об исключении Тани из пионеров. Девочка прячется и плачет в пионерской комнате, потом засыпает. Её нашли. Все узнают от Коли правду.
Таня, проснувшись, возвращается домой. Разговаривают с матерью о доверии, о жизни. Таня понимает, что мать до сих пор любит отца, мать предлагает уехать.
Встреча с Филькой, он узнает, что Таня собирается встретиться с Колей на рассвете. Филька из ревности рассказывает об этом их отцу.
Лес. Объяснение Коли в любви. Приходит отец. Таня уходит. Прощание с Филькой. Уходит. Конец повести.
Цитаты из книги
Хорошо, если у тебя справа друзья. Хорошо если они и слева. Хорошо, если они и там и тут.
Русское слово, прихотливое, непокорное, великолепное и волшебное, - величайшее средство сближения людей.
- Думная ты уж очень.
– Это что же значит? – спросила Таня. – Умная?
– Да не умная, а думаешь много, отчего и подуравей выходишь.
… люди живут вместе, пока любят друг друга, а когда не любят, они не живут вместе – они расходятся. Человек свободен всегда. Это наш закон на вечные времена.
Она сидела неподвижно на камне, и река обдавала ее шумом. Глаза ее были опущены вниз. Но взгляд их, утомленный блеском, рассеянным повсюду над водой, не был пристален. Она часто отводила его в сторону и устремляла вдаль, где крутые горы, осененные лесом, стояли над самой рекой.
Широко открытыми глазами следила она за вечно бегущей водой, силясь представить в своем воображении те неизведанные края, куда и откуда бежала река. Ей хотелось увидеть иные страны, иной мир, например австралийскую собаку динго. Потом ей хотелось еще быть пилотом и при этом немного петь.
Как часто застает она ее в последнее время и печальной и рассеянной, и все же каждый шаг ее исполнен красоты. Может быть, в самом деле, любовь скользнула своим тихим дыханием по ее лицу.
Алексинский уезд ,
Тульская губерния ,
Российская империя
(ныне Заокский район Тульской области)
Андре́й Тимофе́евич Боло́тов (7 октября - 3 либо 4 октября ) - русский писатель, мемуарист, философ-моралист, учёный, ботаник и лесовод, один из основателей агрономии и помологии в России . Внес большой вклад в признание в России помидоров и картофеля сельскохозяйственными культурами.
Энциклопедичный YouTube
-
1 / 5
Андрей Болотов родился в своём родовом селе Дворянинове Алексинского уезда Тульской губернии (ныне Заокского района Тульской области) . Единственный сын мелкого помещика из рода Болотовых Тимофея Петровича Болотова (1700? - 1750) и Мавры Степановны Бакеевой (1705? - 1752).
До 12 лет жил при отце, который служил полковником в архангелогородском полку . В этот полк десятилетний Болотов был зачислен каптенармусом . Отец сам преподавал сыну языки немецкий и французский , арифметику и географию . На тринадцатом году он был отдан к одному курляндскому дворянину , у которого был немец-учитель для детей, а вскоре Болотова отвезли в Санкт-Петербург в пансион одного француза. Здесь, однако, он проучился всего несколько месяцев. На четырнадцатом году Болотов потерял отца, умершего в Выборге , где квартировал в то время архангелогородский полк. После смерти отца, Болотов, будучи уже сержантом , по малолетству, был уволен в отпуск в деревню, где прожил до 16 лет и потерял мать, умершую в 1752 году . В деревне юноша много читал, изучая таким образом, географию, историю , геометрию , фортификацию и упражняясь в рисовании. По окончании отпуска Болотов отправился в полк, который находился тогда в Эстляндии .
Военная служба
В этой должности Болотов находился почти до самого вступления на престол Екатерины II . Незадолго перед тем, по повелению Петра III , у всех не командующих генералов были отобраны штаты, и Болотову следовало бы, оставаясь на службе, отправиться в свой полк в Силезию . Предпочитая учёные занятия военной службе, Болотов вышел в отставку в чине капитана и поселился в своём родовом имении.
Жизнь в деревне
Болотов завязал отношения с только что основанным Вольным экономическим обществом . Последнее приглашало сельских хозяев отвечать на разные сельскохозяйственные вопросы, и Болотов воспользовался этим. Он написал на заданные вопросы ответы, которые с одобрением были приняты и помещены в «Трудах» общества.
Болотова избрали членом общества и продолжали печатать присылаемые им статьи, которых впоследствии набралось столько, что могла бы составиться целая сельскохозяйственная энциклопедия. Из всех отраслей сельского хозяйства Болотов особенно любил садоводство , занимаясь в своём имении разведением садов. Накупив по естествознанию и сельскому хозяйству много книг ещё в Пруссии , он год от году увеличивал свой книжный запас, так что с течением времени у него составилась замечательная библиотека.
Когда понадобился опытный сельский хозяин для управления Киясовской волостью (в Серпуховском уезде), купленной императрицей Екатериною II , то князь С. В. Гагарин по рекомендации Вольного экономического общества предложил Болотову сначала описать эту волость , а затем принять на себя и управление ею. Болотов более 23-х лет управлял собственными волостями императрицы, сначала только Киясовской, а потом также Богородицкой (Тульской губернии) и Бобриковской . За труды по управлению Болотов был удостоен Высочайшего благоволения и награждён чином коллежского асессора .
В это время Болотов приступил к изданию своих сочинений, как оригинальных, так и переводных. Так как Вольное экономическое общество не могло поместить в «Трудах» всех сочинений Болотова, то он стал издавать свой сельскохозяйственный еженедельный журнал «Сельской житель. Экономическое в пользу сельских жителей служащее издание» , который издавался в и 1779 годах . В 1780 году Н. И. Новиков , издававший тогда «Московские ведомости », предложил Болотову для каждого номера газеты составлять по одному печатному листу под названием «Экономический магазин». Болотов с удовольствием принял это предложение и сотрудничал с «Московскими ведомостями» в течение 10 лет, с 1780 по 1790 годы, опубликовав там около 4000 статей. Единственным постоянным помощником Болотова был его сын, который занимался переписыванием набело. Из десятилетнего издания «Экономический магазин» составилась целая энциклопедия в 40 томов. В заглавии этого сочинения говорилось, что оно есть «собрание всяких экономических известий, опытов, открытий, примечаний, наставлений, записок и советов, относящихся до земледелия, скотоводства, до садов и огородов, до лугов, лесов, прудов, разных продуктов, до деревенских строений, домашних лекарств, врачебных трав и до всяких нужных и неизбежных городским и деревенским жителям вещей».
По кончине императрицы Екатерины II собственные волости Её Величества были пожалованы графу А. Г. Бобринскому . Болотов отказался от управления ими, вернулся в свою деревню и принялся за литературные и сельскохозяйственные труды.
Болотов почти безвыездно проживал в своём Дворянинове. Только в 1803 году он пробыл по делам в Санкт-Петербурге 11 месяцев. Здесь Болотов познакомился с членами Вольного экономического общества и участвовал в еженедельных его собраниях. За услуги, оказанные сельскому хозяйству, общество присудило Болотову золотую медаль и о трудах его довело до сведения Государя. Император пожаловал Болотову бриллиантовый перстень.
Не только Вольное экономическое общество ценило труды Болотова: ещё раньше в 1797 году Болотов был избран почётным членом Королевско-саксонского лейпцигского экономического общества, а в 1820 году почётным членом Императорского московского общества сельского хозяйства - за постоянное участие в его трудах. В специальном органе этого общества - «Земледельческом журнале» - Болотов поместил целый ряд статей по садоводству.
Скончался в Дворянинове, не дожив трёх дней до своего 95-летия, что для тех времён было беспрецедентным долголетием. Похоронен на кладбище села Русятина (ныне Заокского района Тульской области) . Могила сохранилась .
Болотов в Богородицке
Значительную часть своей жизни (с по 1797 годы) Андрей Тимофеевич посвятил Богородицку . Здесь, в имении графов Бобринских , по его проекту и при его активном участии был разбит первый в России пейзажный парк , составляющий вместе с дворцом Бобринских (архитектор И. Е. Старов) Богородицкий дворцово-парковый ансамбль .
Достижения в сельском хозяйстве
В своей капитальной работе «О разделении полей» (1771) и других трудах Болотов впервые в России печатно предложил широко вводить севооборот , определять приёмы возделывания культурных растений, исходя из местных природных условий (прежде всего, погоды и почвы ), выступал за своевременность и пропорциональность внесения удобрений даже на чернозёмах . Его интересовало всё: от борьбы с сорняками на пшеничных полях до получения крахмала из картофеля с помощью машин. Он составил первое русское ботаническое описание сорных, лекарственных и культурных растений.
Болотов особенно любил садоводство, занимаясь в своем имении разведением плодовых садов. Опыт садовода, природное любопытство, страсть к познанию нового, острый глаз, тщательность позволили Болотову стать первым русским учёным-помологом, давшим описание более 600 сортов яблонь и груш и создавшим ряд новых сортов плодовых культур. Наблюдая за своими яблонями, Болотов увидел и впервые описал явление дихогамии . В работах Болотова можно найти в самой общей форме мысли об использовании того, что мы сейчас называем гибридизацией . Научная помология, основоположником которой считается Андрей Тимофеевич Болотов, возникла в конце XVIII столетия и существенно отличалась от описательной тем, что классификация сортов яблони и груши проводилась по «существенным и случайным» признакам. В группу случайных А. Т. Болотов ввёл признаки, меняющиеся под влиянием окружающей среды и агротехники - величину, форму и окраску плодов, толщину и длину побегов. К существенным, то есть мало изменяющимся, он относил строение блюдца и воронки, толщину и характер поверхности кожицы плода, твёрдость и вкус мякоти, строение сердцевины и продолжительность хранения плодов. При описании сортов всесторонне характеризовались морфологические признаки плодов (как это было в период описательной помологии) и признаки дерева .
Болотов предложил принципы «рубления, поправления и заведения лесов» .
Андрей Тимофеевич Болотов приложил силы к массовому распространению на Руси картофеля .
Болотов составил первое русское «Руководство к познанию лекарственных трав» (1781).
«Записки» Болотова
сельского хозяйства, до Екатерины II , причём сообщается немало подробностей о русском дворе времён Елизаветы Петровны , Петра III и Екатерины II . Таким образом, помимо важного автобиографического значения, «Записки» представляют драгоценнейшее достояние русской исторической литературы. Этот памятник XVIII столетия долгое время находился в рукописи, в семейном архиве потомков Болотова. В 1839 году появляются первые небольшие отрывки из «Записок» в «Сыне Отечества» , книга 8 и 9, но переделанные и исправленные. Затем в «Отечественных Записках» 1850 и 1854 годах, в томах 69-78, появляются сначала первые четыре части «Записок» Болотова (всего 29 частей), а после того пятая и шестая части, но как и раньше, в исправленном виде, с опущением многих рассуждений. В 1858 и 1860 годах в «Библиотеке для чтения» тоже печатаются некоторые отрывки из 7, 8 и 9 частей «Записок», без переделок, но с пропусками в десятки страниц. Наконец в 1870 году, в первый год издания «Русской Старины4 июля 1764 года женился на Александре Михайловне Кавериной (1751-1834), дочери дворянина Михаила Григорьевича Каверина (1719-1750) и Марии Аврамиевны Арцыбашевой (ум. 1814). Дети:
- Дмитрий Андреевич (1766-1766)
- Елизавета Андреевна (1767-1804), жена с 1788 года тамбовского дворянина Петра Герасимовича Шишкова (ум. 1767?)
- Степан Андреевич (1768-1773)
- Павел Андреевич (1771-1850), у него сын Алексей Павлович (1803-1853)
- Анастасия Андреевна (1773-1820), жена П. И. Воронцова-Вельяминова
- Ольга Андреевна (1775-1800), жена Ф. И. Бородина
- Александра Андреевна (1777-1778)
- Екатерина Андреевна (1778-после 1850), жена А. П. Пестова
- Варвара Андреевна (1781-1782)
Библиография
- «Детская философия, или нравоучительные разговоры между одной госпожой и её детьми, сочинённые для споспешествования истинной пользы молодых людей», изданная в Москве в двух частях, в 1776-1779 годах. Впоследствии Болотов написал продолжение этой книги, в восьми частях, оставшихся в рукописи.
- «Путеводитель к истинному человеческому счастью», в трёх частях, 1784
- «Чувствования христианина при начале и конце каждого дня, относящиеся к самому себе и к Богу», 1781
- «Об электрицизьме и о лечении оным разных болезней», 1803
- «Несчастные сироты», драма в трёх действиях, 1784
Новейшие публикации
- Болотов А. Т. Детская философия. / Подг. текстов, вст. ст., комм. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. - СПб.: Петрополис, 2012. - 854 с.
- Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. - М. : Современник, 1986. - 768 с. - (Память). - 100 000 экз.
- Болотов А. Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1737-1796: В 2 т. / Предисл., примеч. В. Н. Ганичева. - Тула: Приок. кн. изд-во, 1988 - (Отчий край). - 100 000 экз.
- Болотов А. Т. Избранные труды / Сост. А. П. Бердышев, В. Г. Поздняков. - М. : Агропромиздат, 1988. - 416 с. - (Классики отечественной сельскохозяйственной науки). - 4500 экз. - ISBN 5-10-001552-7 .
- Памятник претекших времён, или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах. 1796. - Калининград, Янтарный сказ, 2004. - 208 с. (Текст печ. по изд. - М.: Изд. Киселёва, 1875). - ISBN 5-7406-0777-9 . (То же: М.: Современник, 1990. -
Текущая страница: 1 (всего у книги 62 страниц)
Шрифт:
100% +
Андрей Болотов
Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описанные самим им для своих потомковЧасть первая
Начиная с предков и до 1750 года включительноПредуведомление
Не тщеславие и не иные какие намерения побудили меня написать сию историю моей жизни; в ней нет никаких чрезвычайных и таких достопамятных и важных происшествий, которые бы достойны были преданы быть свету, а следующее обстоятельство было тому причиною.
Мне во всю жизнь мою досадно было, что предки мои были так нерадивы, что не оставили после себя ни малейших письменных о себе известий и чрез то лишили нас, потомков своих, того приятного удовольствия, чтоб иметь об них и о том, как они жили и что с ними в жизни их случилось и происходило, хотя некоторое небольшое сведение и понятие. Я тысячу раз сожалел о том и дорого б заплатил за каждый лоскуток бумажки с таковыми известиями, если б только мог отыскать что-нибудь тому подобное. Я винил предков моих за таковое небрежение, а не хотя и сам сделать подобную их и непростительную погрешность и таковые же жалобы со временем и на себя от моих потомков, – рассудил употребить некоторые праздные и от прочих дел остающиеся часы на описание всего того, что случилось со мной во все время продолжения моей жизни, равно как и того, что мне о предках моих по преданиям от престарелых родственников моих, которых я застал при жизни, и по некоторым немногим запискам отца моего и дяди, дошедшим до моих рук, было известно, дабы сохранить, по крайней мере, и сие немногое от забвения всегдашнего, а о себе оставить потомкам мою незабвенную память.
При описании сем старался я не пропускать ни единого происшествия, до которого достигала только моя память, и не смотрел, хотя бы иные были из них и самые маловажные, случившиеся еще в нежнейшие лета моего младенчества. Сие последнее делал я наиболее для того, что напоминание и пропитывание происшествий, бывших во время младенчества и в нежные лета нашего возраста, причиняют и самим нам некоторое приятное удовольствие. А как я писал сие не в том намерении, чтоб издать в свет посредством печати, а единственно для удовольствования любопытства моих детей и тех из моих родственников и будущих потомков, которые похотят обо мне иметь сведения, то и не заботился я о том, что сочинение сие будет несколько пространно и велико, а старался только, чтоб чего не было пропущено; почему в случае если кому из посторонних случится читать сие прямо набело писанное сочинение, то и прошу меня в том и в ошибках благосклонно извинить. Наконец, что принадлежит до расположения описания сего образом писем, то сие учинено для того, чтоб мне тем удобнее и вольнее было рассказывать иногда что-нибудь и смешное.
История моих предков и первейших лет моей жизни
Письмо 1-еЛюбезный приятель! Наконец решился я предприять тот труд, который давно уже был у меня на удив, и которыми вам с толикою нетерпеливостью видеть хотелось, а именно, сочинить историю моей жизни, или опиисать все то, что случилось со мною во все течение моего жизни; я посылаю к вам теперь начало сего труда, предприятого не менее для удовольствования и вашего любопытства, сколько и для пользы и любопытного сведения обо мне, моим будущим потомкам. Если труд сей будет им угоден, то должны они благодарить несколько и вас за оный, ибо еслиб ныне побудили меня к тому, то может бы не собрался я никогда к действительному приступлению к сему давно уже замышляемому делу. Вы уничтожили нерешимость мою и рассеяли те сумнительства, кои удерживали меня до сего от предприятия теперешнего и нашли способ, удостоверить меня, что обстоятельство, что жизнь моя не такова славна, чтоб стоила описания и что в течение оной не случилось со мною никаких чрезвычайных, редких и особливого примечания достойных происшествий, ни мало не мешает описать мне жизнь свою. Вы уговорили и уверили меня, что в происшествиях, бывших со мною и без того много кой-чего такого найдется, о чем можно писать и рассказывать, и о чем как вам, так и потомкам моим можно будет не без удовольствия и любопытства читать и слушать. Но я не знаю, не ошибаетесь ли вы в том, любезный приятель! Я исполню ваше желание; но буде последующее описание жизни моей не будет для вас таково любопытно, весело и приятно, как вы себе воображаете, то вините уже сами себя, а не меня; ибо мне не достанется другого делать, как пересказывать вам только то, что действительно со мною случилось и вы сами того верно не похотели б, чтоб я для украшения моего сочинения, или для придания ему более приятности стали выдумывали небылицы, или затевать и прибавлять что-нибудь лишнее, к бывшим действительно приключениям. Теперь, прежде приступления к действительному началу моей истории, надобно вас попросить о двух вещах. Во-первых, чтоб вы дозволили мне начало учинить кратким описанием всего того, что известно мне о моих предках, дабы чрез то сохранили, память об них моим потомкам, и чтоб не поскучали вы, если описание сие, следовательно, самое начало сочинения моего будет несколько сухо и скучновато. Во-вторых, чтоб не поскучали уже и тем, что я последующую затем историю мою начну с самого моего младенчества и буду рассказывать и все то, что помню еще я из случившегося со мною в сие нежнейшее и можно сказать, наиприятнейшее для нас время жизни. Я располагаюсь делать сие для того, что напоминание сих происшествий производит самому мне некоторое увеселение, ибо человек приводя себе на память все то, что случалось с ним в младенчестве и в малолетстве, власно как возвращается на то время в тогдашний возрасте и сладость тогдашней жизни, чувствует вновь и при самой своей старости. Сверх того, описание сих в самом деле, хотя сущих безделиц, может быть придаст сколько-нибудь и всему сочинению более приятности, и сделает его для чтения не таковым скучным.
Итак, приступая теперь к самому делу, прежде всего скажу вам, любезный приятель, что я природы татарской! Вот какое странное начало, однако вы тому не дивитесь. Я говорю самую правду и ни мало не стыжусь тем; ибо подобных мне между российскими дворянами очень много; некоторые и многие из них ныне гораздо меня знатнее и лучше, но со всем тем такой же природы как и я. Ибо сие ничто иное значит как то, что первые наши предки были татары, и выехали в Россию из Золотой Орды, сего славного в древности восточного и великого царства, владевшего некогда многие годы всем Российским государством.
Кто таков именно первый основатель нашел фамилии быль? В которое время и при котором государе в Россию выехал, и где сперва поселился – того всего я подлинно ее знаю. Небрежение ли моих предков, невежество ли тогдашних времен, или иной какой случай, не могу вам верно сказать, лишил меня сего удовольствия; одним словом, родословная наша весьма мала, и порядочной мы и по сие время не имеем. Покойный дядя мой, родной брат отцу моему оставил только мне небольшой реестр, или краткую поколенную роспись нашим предкам, которых мог он собрать из книг и дел в разных приказах.
Помянутый дядя мой рассказывал мне, что он не мог далее дойтить как до Насилья Романова сына: а чей сын был Роман того уже он не знает. Может быть сей Роман был и первой тот, который выехал и принял святое крещение, что некоторым образом и вероятно, по счислению лет: ибо я смечаясь находил, что жил он около времен царя Иоанна Васильевича или прежде за несколько времени. А в сие время, как известно, многие татарские фамилии к нам выехали и в здешних местах поселившись, приобщены были российскому дворянству и натурализированы. Какой он человек был, всего того не знаю: а сказывала мне одна только старушка, ближняя моя родственница, которую застал я еще в живых, что слыхала она от своего деда, что самые выезжие предки наши были знатной татарской и княжеской породы, да и здесь не служил никто из них низким чином, но бывали всегда чиновными людьми, и хаживали с царями на войну. Правда ли все сие или нет, в том поручаюсь, по крайней мере, то достоверно, что мы ныне на ряду с прочими российскими дворянами, и имеем все те же преимущества, какие они имеют.
У упомянутого Василия был один только сын Гаврило, прозвищем Горяин, а у сего Горяина было два сына: Ерофей и Еремей. О сем Еремее расскажу я вам после обстоятельнее, а что касается до Ерофея, то от него разделялась фамилия наша на четверо, ибо у него было четыре сына: Осип, Кирила, Ерофей и Дорофей; но поколение сих последних двух, уже давно, а третьего недавно и при мне уже пресеклось. Я и мой двоюродный брат происходим от поколения Осипова, а дом за несколько лет умершего соседа моего, после которого находится ныне в живых одна только дочь, происходит от поколения Кирллова.
Ежели хотите далее звать, кто таковы обоих сих колен ближайшие к нам предки были, то вкратце теперь скажу, что от Кириллы был сын Матвей, от Матвея Никола, от Никиты же подавно умерший Матвей; а в рассуждении нашего поколение от Осипа был Ларион, от Лариона Петр, от Петра Тимофею и Матвей. Первый был отец мой, а последний моего двоюродного брата.
Из сего видите, что весь наш род очень не велик, и Провидению небес не угодно было сделать его многочисленным. Ныне вся наша фамилия состоит в четырех особах: двух старых и двух молодых, и я с братом и обоими нашими сыновьями, составляем всю оную. О месте, где жили предки наши, мы подлинного знания не имеем. Сказывали только мне, что до сего жили они хотя в том же Каширском уезде, но верст с двадцать от нынешнего жилища, а именно на реке Беспуте. Но как бы то ни было, но то достоверно, что они не в тех местах жили, где ныне мы живем, ибо видно по книгам и письмам, что имели тут совсем другие люди жительство и владение. В одном принадлежащем нам теперь месте жил некой князь Шестунов, почему находящийся после сего места лес и поныне еще называют Шестунихою. А в другом, а именно в пустоши Шаховой, жиль князь Гундоров, в которых урочищах и самые места, где были их жительства, видны и поныне. Овинные и погребные ямы доказывают где их дворы стояли, а части оставшиеся от плотин, где их пруды были. Чрез какой случай сии селения опустели, неизвестно, но чаятельно чрез свирепствующее в тогдашние времена моровое поветрие, а может быть разорены они и во время войны татарское. Но как бы то ни было, но сии опустевшие места даны потом за службы нашим предкам, кои около сих мест имели уже поселение свое на речке Скниге и в другой, в близости того места бывшей деревни, носящей и по ныне еще имя их фамилий. Кирила и Ерофей, жили уже в здешних местах и имели дачи и владение на реке Скниге, которыми владеем мы и поныне.
Что касается до истории и до дел наших предков, то равномерно имею я о том очень малое и недостаточное сведение. Невежество тогдашних времен было тому причиною, что они не старались оставить потомкам своим о том какого-нибудь сведения, хотя бы то было для нас ныне весьма приятно и я дорого бы заплатил, если бы мог только отыскать и достать какие-нибудь письменные об их породе, их жизни и приключениях известия. Итак, все известное об них состоит только в некоторых словесных преданиях, да и то очень несовершенных и темных. Знатных и отменно прославившихся людей не было между ними. Не хочу я тем хвастать, а неугодно было также судьбе одарить их и знаменитыми достатками, и преподать им случай по примеру прочих приобресть себе богатство, но они были дворяне недостаточные и не знаменитые. При случающихся войнах хаживали они на войну с царями нашими, и наживали с собою по нескольку человек собственных своих людей, по тогдашнему обыкновению. Когда же в новейшие времена введено в войске нашем регулярство, то служили они в полках офицерами. Однако выше штабского чина никого почти не было из старых.
Об одном только из наших старинных предков, а именно о Еремее сыне Гаврилине, а внуке Василия Романовина, передана мне повесть, которая по особенности своей достойна внесена быть в сие описание, но как она довольно пространна, то дозвольте мне, любезный приятель, рассказание оной отложить до последующего за сим второго письма, а между тем, будьте довольны сим первым, и не взыщите, что наполнил его столь сухою материей, будущее может быть будет уже для вас любопытнее, и не таково скучно. Я окончу оное сказав, что я есмь, и прочее.
История Еремея Гавриловича
Письмо 2-еЛюбезный приятель! Обещав вам в предыдущем моем письме рассказать вам повесть, преданную мне об одном из моих предков, хочу теперь обещание мое исполнить и надеюсь, что вы не поскучаете ее чтением, но будете ею довольны.
Предок сей, как прежде мною уже упомянуто, назывался Еремеем; он был сын Гаврилы прозванного Горяином и жил в упомянутой недалеко от нас находившейся и на речке Гвоздевке сидящей деревне, которая по нем стала называться Болотово, между тень как брат его родной Ерофей поселился на берегах реки Скниги и в самом том месте где мы ныне живем. У сего Еремея было два сына и две дочери. Одна из сих последних выдача была замуж за соседнего дворянина Ладыженского, а другая находилась в девках. Как около тогдашнего времени случилось нашим государям иметь войну с крымскими татарами, и все дворянство по тогдашнему обыкновению имело в том участие, то принужден был и помянутый Еремей, оставив жену и дочь в девках, идти на оную с обоими своими сыновьями и лучшими людьми. Но сия война была ему крайне злополучна. При глазах его поражены были оба его сыновья и пали мертвы к ногам своего родителя. Сие так тронуло сего несчастного старика, что он в беспамятстве почти бросался на неприятелей, желая отмстить за смерть детей своих, но тем лишь только свое несчастье усугубил. Будучи отхвачен от своих, хотя и долго оборонялся он от окруживших его неприятелей, но наконец принужден был уступить силе и дать себя взять в плен и отвесть в жестокую неволю.
Как в сем плену препроводил он долгое время, и о нем в России никакого слуха и известия побыло, то считали его все погибшим; жена и дочь были о лишении его неутешны, но небо в особливости излияло гнев свой на сей несчастный дом, и присовокупило новые бедствия и напасти. Немногие годи спустя, ночным временем напали разбойники на дом сей госпожи; они ограбили оный весь и самое ее измучив, тираническим образом лишили жизни. Бедной дочери ее удалось уйти босяком и совсем почти обнаженною. К несчастию, устрашенная боязнию, чтоб ее не нашли и не догнали, восприяла она бежать в блтжнюю и самую ту деревню, где мы ныне обитаем, и где тогда жили двоюродные ее братья Кирила и Ерофей, искать у них спасения и прибежища. Но когда разгневанное небо похочет кого гнать, то можно ли найти где спасения и укрытия от его гнева. Самый сей побег, свободивший ее от рук и варварства злодеев, обратился ей в вящее несчастье. Как случилось сие в зимнее время и в жесточайшие морозы, то она, бежав около трех верст до нашей деревни босая по снегу, отзнобила ноги и пришед в дом родственников своих пала без памяти. Страх, печаль, простуда и самая боль ног в короткое время низвели ее во гроб. А как за короткое пред тем время и замужняя ее сестра умерла бездетно, то пресеклось чрез то все их поколение, и имению их остались наследниками помянутые ее родственники, то есть наши предки Кирила с своими братьями, в которое они поступили спокойно во владение.
Все думали тогда, что отца ее, настоящего владельца сего имения, не было в живых, ибо несколько уже лет прошло как он без вести пропал и ее было о нем ни малейшего слуха. Со всем тем он был жив и претерпевал все суровости плена; слишком двадцать лет принужден он был, удаленным от отечества, от дома и родных своих, стонать под игом жесточайшей неволи, быть рабом у многих переменных и немилосердных господ, и отправлять все должности раба и невольника. Многажды покушался он уйтить, но все его покушения былин тщетны и произвели только то, что содержать его стали жесточее, а для отвращения от побега, по варварскому своему обыкновению, взрезали ему пяты, и насыпав рубленных лошадиных волос, зарастили оные в них, дабы не способен был к долговременной ходьбе.
Наконец судьба соединила его с одним земляком, таким же дворянином, каков был он, и который был не только ему знаком, но и несколько сродни. Сей несчастный был фамилии Писаревых, и будучи взят тогда же в полон, претерпевал такую ж неволю и рабство. Хотя сей столько же мало мог подать ему помощи, сколько он ему, однако обоим им приносило соединение сие великую уже отраду. По крайней мере могли они совокуплять все слезы и жалобы на суровость своего жребия, и вспоминая свою родину, говорить друг с другом и утешать себя взаимно.
Несколько времени препроводили они вместе, служа одному татарскому господину. Наконец убежден был мой предок товарищем своим к испытанию еще раз своего счастия в побеге. Близость тогдашнего их пребывания от пределов и границ российских и явившейся удобный к тону случай подавал им к сему поводы – но и в сей раз не были они счастливее прежнего. Они ушли, но их догнали и наказали наижесточайшим образом.
Сие прогнало в них охоту к предприятию впредь тому подобного. Однако в самое то время, когда они всего меньше о том думали, и когда лишились уже навек надежды видеть когда-нибудь любезное свое отечество, явился неожиданный и новый благоприятствующий им случай. Одна старушка, раба того ж господина, сжалилась на их несчастье. Благоприятствуя им во всякое время, не могла она без соболезнования смотреть на раны ими претерпеваемые. Она утешала их и говорила, что им никогда не уйтить, если не похотят они пользоваться ее помощию, при ее ж вспоможении они верно отечество свое увидеть могут. Легко можно заключить, что не надобно было им сие два раза предлагать. Они пали к ее потам и просили, чтобы помогла, если только может. Татарка обещала им сие сделать и велела дожидаться, покуда найдет она к тому удобное время.
Чрез несколько дней она и исполнила свое обещание: «добро!», сказала она пришед в один день с поспешностью к ним: «мне надобно сдержать свое обещание, не могу более видеть ваших слез и горести, – добродушие и постоянство ваше меня тронуло – вот возьмите сие, и не теряя времени бегите и будьте счастливы. Бог да поможет вам увидеть вашу землю и родных ваших». В самое то время отдала она им связку и напоминала, чтобы они в нужном случае хоть бы все кинули, но не бросали б, а берегли маленький узелок, завязанный в связке. Они не знали, что это значит, однако, поблагодарив старушку и простившись с ней, отправились того часа в путь свой.
Целую ночь бежали они неоглядкою в ту сторону, которую указала им старушка, и дошед до одного назначенного ею места, спрятались в камыш для отдохновения и препровождения в оной всего дня того.
Тут имели они время осмотреть все, что находилось в связке. Они увидели, что добросердечная старушка снабдила их всем нужным к продолжению пути их. Находилось туте несколько денег, и столько съестных припасов, что им можно было ими до пришествия в свое отечество пропитаться; но что привело их в великое удивление, то был помянутый узелок, о бережении которого старушка неоднократное ишь делала подтверждение; в оном не нашли они ничего, кроме двух небольших пучков незнакомой им травы; хотя они и не знали, чтоб это значило, однако положили свято хранить старушкино завещание, и для лучшего сохранения взяли оба по пучку, и спрятали в безопаснейшее место.
Но не успели они скарб свой опять связавши несколько отдохнуть, как услышали уже издали крик и вопль татар, скачущих по пространным степям и друг другу голос подающих. Не трудно было им заключить, что то была за ними погоня. Они ужаснулись от близости предстоящего им бедствия, и пали ниц в густом камыше, прося Бога о помиловании их и о защищении от гонителей. Слух и топот от скачущих лошадей приближался отчасу ближе, и страх их был неописанный, как татары, гнавшие за ними и их повсюду тискавшие, прискакали к самому тому болоту и камышу и в оном повсюду искать их начали. Но небо похотело тогда конец положить их страданиям: татары не нашли их, хотя несколько раз ни в такой близости от них ездили, что одному из них едва было головы лошадьми не раздавили. Они спаслись, – и возблагодарив Бога, пролежали тут весь день, и не прежде пошли в дальнейший путь, как по наступлении опять ночи.
Сим образом, идучи всегда по ночам, препроводили они несколько суток в беспрестанном страхе и боязни, покуда не дошли благополучно до пределов российских и не достигли до любезного своего отечества. Тут отдохнули они по желанию и благословляли Бога, что вывел их благополучно наконец из долговременной и жестокой неволи, и дал еще прежде смерти увидеть свое малое отечество.
Совсем тем место их родины отстояло откуда еще далеко, и им предстоял путь гораздо дальнейший. Но как бы то ни было, но продолжали они оный охотно, питаясь мирским подаянием, ибо собственного ничего более у себя не имели. Надежда вскоре увидеть свои домы и родных увеселяла их дух, и облегчала трудности путешествия. Но сколь мало знал мой предок, какие печальные вести его там дожидаются, где он веселье найти надеялся!
По приближении к тем местам, где уже неподалеку них обоих жилищи были, распрощались они друг с другом наинежнейшим образом и каждый спешил к своему дому и обиталищу. С какими чувствиями приближался наш старик к тем местам, где он рожден, воспитан и препроводил большую часть века своего живучи в новое, и от коих толь долгое время был отлучен и не имел надежды никогда видеть, сие всякому себе вообразить, нежели мне описать удобнее. Трепетало сердце его и наполнялось наисладчайшею радостью, как начали уже появляться те места, которые ему с малолетства были знакомы, и встречаться с ним все те положения несть, те речки, ручьи, вершины и бугорки, которых и звания не могло из памяти его истребить толь долговременное отсутствие. Переходя оные называл он каждый из них знакомым ему еще именем, и каждое приветствовал. Все они были ему милы и казались глазам его имеющими в себе нечто приятное и прелестное, а многие места не мог уже он и узнавать совсем, а особливо леса и рощи. Во время толь многих годов его отсутствия многие совсем иной вид восприяли. Там, где при отшествии его на войну были леса, находил уже он пашни и поля, а где низкие кустарники и чепыжи были, там высокие и большие рощи и заказы стояли. Одним словом, все ему казалось ново, шило и приятно, но не зная, что в доме его происходило, и кого он найдет, находился он между страхом и надеждою.
Перед вечером было то, как наш старик, изнемогший от трудов и долговременного путешествия, в пыли, в поту, в разодранном рубище, с котомкою за плечами, и с посошком в руках добрел до своих полей и тех месте, откуда хотя вдали, но мог даже он свое жилище видеть. Вострепетало сердце его при узрении сего селения, и вся душа взволновалась в нем. Он удвоил остатки своих еще и спешил добраться до одного знакомого ему еще бугорка, с которого можно было ему свой дом видеть ж с которого, идучи на войну, он в последний раз с ним прощался. Он доходит туда. Но, увы! какое зрелище представляется его зрению! Нигде, нигде не видит он своего дома и хором, и глаза его тщетно ищут сего обиталища, которое ему до сего столь мило было, и которое он с толиким вожделением видеть желал. От сердца его власно как оторвалось тогда что-нибудь! Вся кровь взволновалась в нем при сем печальном предвозвестии и он едва было на самом том месте не упал, обессилев. Однако некоторый остаток надежды подкреплял еще его: «может быть», говорил он сам себе: «жена моя перенесла хоромы в другое место;– может быть новый дом и на другом месте построила! – Лет не мало прошло с того времени, как я отлучился! – Поспешу вон на этот пригорок!.. Оттуда уже явственнее все увижу и всю деревню обозрю!» Сказав сие, и собрав остатки сил, поспешал сей, сединами покрытый муж добраться до пригорка вожделенного. Ноги его едва служить ему могли, колени его согибались против хотения и никогда не был ему посошок его так нужен, как в то время. Наконец достигает он и до того пригорка и с страхом и надеждою восходит на него и обозревает вновь всю деревню. Но, увы! он и тут ничего не видит. Он ищет темнеющими глазами своих хором, но и следа хором и дворянского дома не находит. Повсюду видны были только мужичьи хижины и дворы, а на месте где он живал, был уже огород и росли конопля. Он и места не узнал бы, если б некоторые деревя, оставшиеся от бывшего его и любезного ему садика, не делали его приметным. Одним словом, он не мог более никак сомневаться и все доказывало дома и жилища его совершенное уничтожение.
Тогда не могли уже нош его более на себе держать. Колена его подломились и он, изнемогая, ринулся на том месте, где стоял, и слезы как град покатились из очей его. Несколько минут сидел он тут, опершись на посошок и орошая оный слезами, и не был в силах встать и продолжать путь свой.
Наконец пришло ему в мысли, что может быть жена его умерла, и дочь вышла замуж, или и она еще жива, но живет с замужнею дочерью. Сия мысль ободрила его несколько, и подала новый луч надежды и отрады… В сих помышлениях видит он вдали человека приближающегося к себе и возвращающегося в дом свой с поля с хлебопашенным своим орудием. «Подожду», сказал он тогда, «сего земледельца я к себе, и услышу от него о судьбе моего дома и моих домашних. Нельзя ему не знать, что с ним и с живущими в нем учинилось и каким случаем он совсем уничтожился».
По приближении сего человека показались ему черты и признаки его лица знаемы. Старик то был сединами покрытый и хотя двадцатилетнее время много вид его переменило, но он вскоре признал, что сей человек принадлежал прежде ему и был самый тот, который при отъезде его из дома был старостою. Обрадовался наш старик, узнав и увидев сего знакомого человека, однако имел столько терпения и духа, что не открыл тотчас о себе, но хотел видеть узнает ли он его, и пользуясь неузнанием, готовился распроведывать у него обо всем, и потому хотя с нетерпеливостью, но дожидался его к себе.
Земледелец поровняясь против его и видя дряхлого и престарелого человека, неинако его счел как нищим, а будучи добросердечным человеком, не мог его пройтить мимо. «Старинушка!» сказал он ему: «небось ты, бедненький устал и сегодня еще не обедал?… Добреди, дружок, до моего двора и переночуй у нас, мы тебя напоим и накормим». – «Спасибо, мой друг!» ответствовал опечаленный старик, и сказав сие начал собирать свои силы и вставать. Добродушный крестьянин, видя его дряхлость и изнеможение, подошед к нему и помогши подняться, не хотел его покинуть, но сам восхотел довесть его до двора.
На дороге спрашивал он его, откуда и из каких месте он. – «Издалека, добрый человек»! ответствовал наш старик «и более двадцати лете в здешних местах не бывал. И куда как у вас все места здесь переменились! И не узнаешь уже их!.. Вот здесь, помнится мне, стояли хоромы и был дом, господский, а теперь и следа его нет! – «Да, старинушка! тут были дом нашего прежнего боярина… Покойник-свет, дай Бог ему царство небесное! боярин был добрый и мы его очень любили». – «А ныне чьи же вы, добрый человек», спросил его наш путешественник. «Племянников его, старинушка! которые живут вон в этой деревне». – «Племянников его, подхватил изумившийся старик: но разве не осталось у него детей? Мне помнится, что они у него были… Я как теперь их вижу». – «Так, старинушка! Дети были, но все на том свете!.. Сыновья его побиты на войне, сам он там же без вести пропал, а бедную боярыню нашу разбойники разбили и до смерти замучили. А из дочерей его одна была замужем в умерла, а другая ноги отзнобила, бежавши от разбойников, и оттого также на том свете!.. И как никого не осталось, то так и перевелся этот домок и мы достались его племянникам».
Легко можно заключить, что немногие сии слова поразили несчастного старца, власно как громовым ударом. Не в силах он был выслушивать далее хотящего говорить добросердечного крестьянина. Колени его подломились и он воскликнул только: «О, Боже милосердный»! без памяти ринулся на землю, и не в состоянии был говорить более; слезы как град покатились из очей его и вздохи последовали за стенаньями. Таковое явление удивило простодушного крестьянина. Он оробел сочтя, что старик опасно занемог, и стоял над ним в изумлении. «Что тебе, старинушка, сделалось»? сказал он потом, приметя, что он несколько опамятовался: «о чем ты, дружок, так плачешь и горюешь?» – «О мой друг! есть о чем мне плакать и горевать», ответствовал вздыхая и всхлипывая старик: Куда мне теперь приклонить свою голову! всего того уже нет, чем бы мог я веселиться – всей надежды я теперь лишился»!
Слова сии невразумительны были для крестьянина, но он вскоре его вывел из сумнения сказав, чтоб он посмотрел пристальнее на него и не узнает ли он в нем своего прежнего боярина? – «Ах батюшка Еремей Гаврилович! закричал узнав его крестьянин, и упал к нему в ноги, – в живых ли тебя, государя нашего, видеть!.. Откуда ты это к нам, взялся? Мы тебя, государе, давно уже поминаем и думали, что ты давно на том свете! Как это тебя Бог спас и на святую Русь вынес? Пожалуй, батюшка, поцеловать мне свою ручку». – Старик не мог тогда удержаться, чтоб не удвоить своих слез и чтоб не обнять своего старинного подданного; он облобызал его и обмочив вкупе лице его слезами, изявляя радость, что нашел хотя его еще в живых и его незабывшего.
Приключение сие в такое замешательство привело добросердечного сего крестьянина, что он не знал, что тогда ему с господином его делать: и в деревню бежать, и повозку для отвоза его к себе в дон привесть ему хотелось, но не хотелось и утружденного и крайне опечаленного старика оставить одного на поле, ненаходящегося в состоянии иттить далее. Он озирался кругом, не увидеть ли кого иного, но не видя никого, усердие превозмогло наконец. Он упросил его, чтоб он на минуту посидел и отдохнул на том месте, а сам бросился в деревню, и схватя первую телегу, попавшуюся ему в глаза, спешил обратно на помощь к своему господину.
Между тем как сие происходило и докуда они до деревни ехали, успел разнестись о приключении этом слух по всей деревне. Семья того мужика рассыпалась во всем дворам, и встревожила всех жителей. Со всех сторон бежал и стекался народ, и собирался ко двору того крестьянина, и множество было тогда сбежавшихся, как приехали они в деревню. Всякий спешил отчасти из усердия, отчасти из любопытства видеть прежнего своего господина, и многие от нетерпеливости бежали ему на встречу, и, кланяясь, изъявляли свою радость. А не успел он приехать, как многие наперерыв бросались его вынимать и целовать у него руки. Сколь старик не был печалию отягощен, но не мог чтоб не чувствовать тогда некоторой отрады. Он соединял тогда слезы горести с слезами радости и удовольствия, и не оставил никого из всех, кого бы не облобызал он и не обмочил слезами. Все от мала до велика принуждены были к нему подходить и всех старался он приласкать, колико было ему тогда можно. Многих застал он еще живых, которых знал, но большая часть была незнакомых; отчасти родившихся после его, отчасти таких, коих оставил он еще в малолетстве, но все до единого были ему рады, и не могли на него насмотреться.
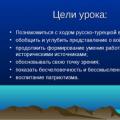 Презентация "Русско-турецкая война" по истории – проект, доклад
Презентация "Русско-турецкая война" по истории – проект, доклад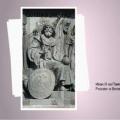 Презентация - Правление Ивана IV Грозного
Презентация - Правление Ивана IV Грозного Как написать роман или в помощь зрелому графоману
Как написать роман или в помощь зрелому графоману