Фигуры речи. Поэтический синтаксис
Не менее значимой, чем поэтический словарь, областью исследования выразительных средств является поэтический синтаксис. Изучение поэтического синтаксиса заключается в анализе функций каждого из художественных приемов отбора и последующей группировки лексических элементов в единые синтаксические конструкции. Если при имманентном исследовании лексики художественного текста в роли анализируемых единиц выступают слова, то при исследовании синтаксиса - предложения и фразы. Если при исследовании лексики устанавливаются факты отступления от литературной нормы при отборе слов, а также факты переноса значений слов (слово с переносным значением, т. е. троп, проявляет себя только в контексте, только при смысловом взаимодействии с другим словом), то исследование синтаксиса обязывает не только типологическому рассмотрению синтаксических единств и грамматических связей слов в предложении, но и к выявлению фактов корректировки или даже изменения значения целой фразы при семантическом соотношении ее частей (что обычно происходит в результате применения писателем т.н. фигур).
Уделять внимание авторскому отбору типов синтаксических конструкций необходимо потому, что этот отбор может быть продиктован тематикой и общей семантикой произведения. Обратимся к примерам, которыми послужат фрагменты двух переводов "Баллады повешенных" Ф.Вийона.
Нас пять повешенных, а может, шесть.
А плоть, немало знавшая услад,
Давно обожрана и стала смрад.
Костями стали - станем прах и гнилость.
Кто усмехнется, будет сам не рад.
Молите Бога, чтоб нам всё простилось.
(А.Парин, "Баллада повешенных")
Нас было пятеро. Мы жить хотели.
И нас повесили. Мы почернели.
Мы жили, как и ты. Нас больше нет.
Не вздумай осуждать - безумны люди.
Мы ничего не возразим в ответ.
Взглянул и помолись, а бог рассудит.
(И.Эренбург, "Эпитафия, написанная Вийоном для него
и его товарищей в ожидании виселицы")
Первый перевод более точно отражает композицию и синтаксис источника, но его автор в полной мере проявил свою поэтическую индивидуальность в отборе лексических средств: словесные ряды построены на стилистических антитезах (так, высокое слово "услады" сталкивается в пределах одной фразы с низким "обожрана"). С точки зрения стилистического многообразия лексики второй перевод видится обедненным. К тому же, мы можем заметить, Эренбург наполнил текст перевода короткими, "рублеными" фразами. Действительно, минимальная длина фраз переводчика Парина равна стиховой строке, и ей же равна максимальная длина фраз Эренбурга в приведенном отрывке. Случайно ли это?
По-видимому, автор второго перевода стремился к достижению предельной выразительности за счет использования исключительно синтаксических средств. Более того, выбор синтаксических форм он согласовал с выбранной Вийоном точкой зрения. Вийон наделил правом повествующего голоса не живых людей, а бездушных мертвецов, обращающихся к живым. Эту смысловую антитезу следовало подчеркнуть синтаксически. Эренбург должен был лишить речь повешенных эмоциональности, и потому в его тексте так много нераспространенных, неопределенно-личных предложений: голые фразы сообщают голые факты ("И нас повесили. Мы почернели..."). В этом переводе отсутствие оценочной лексики, вообще эпитетов - своеобразный "минус-прием".
Пример стихотворного перевода Эренбурга - логически обоснованное отступление от правила. Это правило по-своему формулировали многие писатели, когда касались вопроса о разграничении стихотворной и прозаической речи. А.С.Пушкин высказался о синтаксических свойствах стиха и прозы так:
"Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру - а они пишут: едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба - ах, как все это ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее. <...> Точность и краткость - вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое..." ("О русской прозе")
Следовательно, "блестящие выражения", о которых писал поэт, - а именно лексические "красоты" и разнообразие риторических средств, вообще типов синтаксических конструкций - явление в прозе не обязательное, но возможное. А в стихах - распространенное, потому что собственно эстетическая функция стихотворного текста всегда значительно оттеняет функцию информативную. Это доказывают примеры из творчества самого Пушкина. Синтаксически краток Пушкин-прозаик:
"Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко". ("Метель")
Напротив, Пушкин-поэт нередко многословен, выстраивает длинные фразы с рядами перифрастических оборотов:
Философ резвый и пиит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых аонид,
Почто на арфе златострунной
Умолкнул, радости певец?
Ужель и ты, мечтатель юный,
Расстался с Фебом наконец? <...>
("К Батюшкову")
Е.Г.Эткинд, анализируя это стихотворное послание, комментирует перифрастический ряд: "Пиит" - это старое слово означает "поэт". "Парнасский счастливый ленивец" - это тоже значит "поэт". "Харит изнеженный любимец" - "поэт". "Наперсник милых аонид" - "поэт". "Радости певец" - тоже "поэт". В сущности говоря, "мечтатель юный" и "философ резвый" - это тоже "поэт". <...> "Почто на арфе златострунной умолкнул..." Это значит: "Почему ты перестал сочинять стихи?" Но дальше: "Ужель и ты... расстался с Фебом..." <...> - это то же самое", - и заключает, что пушкинские строки "на все лады видоизменяют одну и ту же мысль: "Почему же ты, поэт, не пишешь больше стихов?"
Следует уточнить, что лексические "красоты" и синтаксические "длинноты" необходимы в стихах только тогда, когда они семантически или композиционно мотивированы. Многословность в поэзии может оказаться неоправданной. А в прозе столь же неоправдан лексико-синтаксический минимализм, если он возведен в абсолютную степень:
"Осел надел львиную шкуру, и все думали - лев. Побежал народ и скотина. Подул ветер, шкура распахнулась, и стало видно осла. Сбежался народ: исколотили осла".
("Осел в львиной шкуре")
Скупые фразы придают этому законченному произведению вид предварительного сюжетного плана. Выбор конструкций эллиптического типа ("и все думали - лев"), экономия значимых слов, приводящая к грамматическим нарушениям ("побежал народ и скотина"), наконец, экономия служебных слов ("сбежался народ: исколотили осла") определили излишний схематизм сюжета этой притчи, а потому ослабили ее эстетическое воздействие.
Другой крайностью является переусложнение конструкций, использование многочленных предложений с разными типами логических и грамматических связей, со множеством способов распространения. Например:
"Хорошо было год, два, три, но когда это: вечера, балы, концерты, ужины, бальные платья, прически, выставляющие красоту тела, молодые и немолодые ухаживатели, все одинакие, все что-то как будто знающие, имеющие как будто право всем пользоваться и надо всем смеяться, когда летние месяцы на даче с такой же природой, тоже только дающей верхи приятности жизни, когда и музыка и чтение, тоже такие же - только задирающие вопросы жизни, но не разрешающие их, - когда все это продолжалось семь, восемь лет, не только не обещая никакой перемены, но, напротив, все больше и больше теряя прелести, она пришла в отчаяние, и на нее стало находить состояние отчаяния, желания смерти" ("Что я видел во сне")
В сфере исследований русского языка не существует установившихся представлений о том, какой максимальной длины может достичь русская фраза. Однако читатели должны ощущать предельную затянутость данного предложения. Например, часть фразы "но когда всё это" не воспринимается как неточный синтаксический повтор, как парный элемент к части "но когда это". Потому что мы, доходя в процессе чтения до первой указанной части, не можем удержать в памяти уже прочитанную вторую часть: слишком далеко отстоят одна от другой в тексте эти части, слишком большим количеством деталей, упомянутых в пределах одной фразы, осложнил наше чтение писатель. Стремление автора к максимальной детализации при описании действий и психических состояний приводит к нарушениям логической связи частей предложения ("она пришла в отчаяние, и на нее стало находить состояние отчаяния").
Процитированные притча и рассказ принадлежат перу Л.Н. Толстого. Особенно легко определить его авторство при обращении ко второму примеру, и в этом помогает внимание к стилеобразующим синтаксическим приемам. Г.О.Винокур писал о приведенной выше цитате из рассказа: "... Я узнаю здесь Льва Толстого не только потому, что в этом отрывке говорится о том, о чем часто и обычно говорит этот писатель, и не только по тому тону, с каким обычно о подобных предметах он говорит, но также по самому языку, по синтаксическим его приметам... По мысли ученого, которую он высказывал неоднократно, важно прослеживать развитие языковых примет, авторского стиля в целом на всем протяжении творчества писателя, потому что факты эволюции стиля являются фактами биографии автора. Поэтому, в частности, необходимо прослеживать эволюцию стиля и на уровне синтаксиса.
Исследование поэтического синтаксиса предполагает также оценку фактов соответствия использованных в авторских фразах способов грамматической связи нормам национального литературного стиля. Здесь можно провести параллель с разностилевой пассивной лексикой как значимой частью поэтического словаря. В сфере синтаксиса, как и в сфере лексики, возможны варваризмы, архаизмы, диалектизмы и пр., потому что две эти сферы взаимосвязаны: по словам Б.В.Томашевского, "каждая лексическая среда обладает своими специфическими синтаксическими оборотами".
Литературоведческое изучение синтаксических особенностей художественного произведения, подобно анализу лексики («поэтического словаря»), призвано выявить эстетическую функцию синтаксических приемов, их роль в формировании стиля в его разных объемах (авторского, жанрового, национального и т. д.).
Как и при изучении лексики, здесь значимы факты отступлений от литературной нормы, знание которой дает лингвистика. В сфере синтаксиса, как и в сфере лексики, возможны варваризмы, архаизмы, диалектизмы и пр., потому что две эти сферы взаимосвязаны: по словам Б. В. Томашевского, «каждая лексическая среда обладает своими специфическими синтаксическими оборотами» (Теория литературы. Поэтика, с.73). В русской литературе наиболее распространены синтаксические варваризмы, архаизмы, просторечия.
Варваризм в синтаксисе возникает, если фраза построена по правилам иностранного языка. В прозе синтаксические варваризмы чаще опознаются как речевые ошибки: «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа» в рассказе А. П. Чехова «Жалобная книга» – этот галлицизм настолько явный, что возникает комический эффект. В русских стихах синтаксические варваризмы иногда использовались как приметы высокого стиля. Например, в балладе А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» строка «0н имел одно виденье...» – образец такого варваризма: связка «он имел виденье» появляется вместо сочетания «ему было виденье». Здесь встречаем и синтаксический архаизм с традиционной функцией повышения стилевой высоты: «Несть мольбы Отцу, ни Сыну,/ Ни святому Духу ввек/Не случалось паладину...» (следовало бы: «ни Отцу, ни Сыну»). Синтаксические просторечия, как правило, присутствуют в эпическиx и драматических произведениях в языке персонажей для реалистического отражения индивидуального речевого стиля, для автохарактеристики героев. С этой целью к просторечиям прибегал Чехов: «Ваш папаша говорили мне, что оне надворный советник, а оказывается теперь, оне всего только титулярный» («Перед свадьбой»), «Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?» («Ионыч»).
Анализируя художественный текст, необходимо уделять внимание авторскому отбору типов синтаксических конструкций, потому что этот отбор может быть продиктован содержанием произведения (мотивирован темой, обусловлен задачей речевого выражения «точек зрения» персонажей, и т. п.).
Есть свои особенности в восприятии синтаксиса стихотворного произведения. В частности, в таких произведениях по-иному, чем в прозе, ощущается долгота фразы. Нередко в значительном по объему стихотворении оказывается всего несколько предложений. Однако стиховое членение текста значительно облегчает его чтение.
Особую важность для выявления специфики художественной речи имеет изучение стилистических фигур (также их именуют риторическими – по отношению к риторике, в рамках которой теория тропов и фигур была впервые разработана; синтаксическими – по отношению к синтаксису как к одному из речевых аспектов любого художественного текста).
Учение о фигурах складывалось уже в те времена, когда складывалось учение о стиле, – в эпоху античности; развивалось и дополнялось – в средние века; наконец, окончательно превратилось в постоянный раздел нормативных «поэтик» (учебников по поэтике) – в Новое время. Тропы и фигуры были предметом единого учения: если «троп» – изменение «естественного» значения слова, то «фигура» – изменение «естественного» порядка слов в синтаксической конструкции (перестановка слов, пропуск необходимых или использование «лишних» – с точки зрения «естественной» речи – лексических элементов). В обыденной речи обнаруживаемые «фигуры» часто рассматриваются как речевые ошибки, но в пределах художественной речи те же фигуры обычно выделяются как действенные средства поэтического синтаксиса.
В настоящее время существует множество классификаций стилистических фигур, в основу которых положен тот или иной – количественный или качественный – дифференцирующий признак: словесный состав фразы, логическое или психологическое соотношение ее частей и т. д. В данном случае при перечислении особо значимых фигур учитываются три фактора: 1) необычная логическая или грамматическая связь элементов синтаксических конструкций; 2) необычное взаиморасположение слов во фразе или фраз в тексте, а также элементов, входящих в состав разных (смежных) синтаксических и ритмико-синтаксических конструкций (стихов, колонов), но обладающих грамматическим подобием; 3) необычные способы интонационной разметки текста с помощью синтаксических средств. Следует иметь в виду, что в пределах одного и того же отрезка речи могут совмещаться не только разные тропы, но и разные фигуры.
К группе приемов нестандартной связи слов в синтаксические единства относятся эллипс, анаколуф, силлепс, алогизм, амфиболия (фигуры, отличающиеся необычной грамматической связью), а также гендиадис и эналлага (фигуры с необычной семантической связью элементов).
Одним из самых распространенных не только в художественной, но и в обыденной речи синтаксических приемов является эллипс (гр. ellepsis – оставление). Это имитация разрыва грамматической связи, заключающаяся в пропуске слова или ряда слов в предложении, при котором смысл пропущенных членов легко восстанавливается из общего речевого контекста. Данный прием чаще всего используется в эпических и драматических сочинениях при построении диалогов персонажей: с его помощью авторы придают жизнеподобие сценам общения своих героев.
Эллиптическая речь в художественном тексте производит впечатление достоверной, потому что в жизненной ситуации разговора эллипс является одним из основных средств композиции фраз: при обмене репликами он позволяет пропускать ранее прозвучавшие слова. В разговорной речи за эллипсами закреплена исключительно практическая функция: говорящий передает собеседнику информацию в необходимом объеме, используя при этом минимальный лексический запас. Между тем использование эллипса как выразительного средства в речи художественной может быть мотивировано и установкой автора на психологизм повествования. Часто эллипсы обозначают и строительную смену состояний или действий. Такова, например, их функция в пятой главе «Евгения Онегина», в повествовании о сне Татьяны Лариной: «Татьяна ах! а он реветь...», «Татьяна в лес, медведь за нею...»
И в быту, и в литературе речевой ошибкой признается анаколуф (гр. anakoluthos – непоследовательный) – неверное использование грамматических форм при согласовании и управлении. Применение анаколуфа может быть оправдано в тех случаях, когда писатель подчеркивает экспрессию речи персонажа: «Стой, братцы, стой! Ведь вы не так сидите!» (в басне Крылова «Квартет»).
Напротив, скорее сознательно примененным приемом, чем случайной ошибкой, оказывается в литературе силлепс (гр. syllpsis – сопряжение, захват), заключающийся в синтаксическом оформлении семантически неоднородных элементов в виде ряда однородных членов предложения: «Половой этот носил под мышкой салфетку и множество угрей на щеках» (И.С. Тургенев, «Странная история»).
Алогизм (гр. а – отрицательная частица, logismos – разум) представляет собой синтаксическое соотнесение семантически несоотносимых частей фразы с помощью ее служебных элементов, выражающих определенный тип логической связи (причинно-следственные, родо-видовые отношения и пр.): «Автомобиль быстро ездит, зато кухарка лучше готовит» (Э. Ионеско, «Лысая певица»).
Если анаколуф чаще видится ошибкой, чем художественным приемом, а силлепс и алогизм – чаще приемом, чем ошибкой, то амфиболия (гр. amphibolia – двусмысленность, неясность) всегда воспринимается двояко. Двойственность – в самой ее природе, так как амфиболия – это синтаксическая неразличимость подлежащего и прямого дополнения, выраженных именами существительными в сходных грамматических формах. («Слух чуткий парус напрягает...» в одноименном стихотворении О.Э. Мандельштама).
К числу редких в русской литературе и потому особенно заметных фигур относится гендиадис (от гр. hen dia dyoin – одно через два), при котором сложные прилагательные разделяются на исходные составляющие части: «тоска дорожная, железная» (А. А. Блок, «На железной дороге»). Здесь расщеплению подверглось слово «железнодорожная», в результате чего три слова вступили во взаимодействие – и стих приобрел дополнительный смысл.
Особую семантическую связь получают слова в стихе в том случае, когда писатель применяет эналлагу (гр. enallage – перемещение) – перенос определения на слово, смежное с определяемым. Так, в строке «Сквозь мяса жирные траншеи...» из стихотворения Н. А. Заболоцкого «Свадьба» определение «жирные» стало ярким эпитетом после перенесения с «мяса» на «траншеи».
К числу фигур с необычным взаиморасположением частей синтаксических конструкций относятся различные виды параллелизма и инверсии.
Параллелизм (от гр. parallelos – идущий рядом) предполагает композиционную соотнесенность смежных синтаксических отрезков текста (строк в стихотворном произведении, предложений в тексте, частей в предложении). Виды параллелизма обычно выделяют на основании какого-либо признака, которым обладает первая из соотносимых конструкций, служащая для автора образцом при создании второй.
Так, проецируя порядок слов одного синтаксического отрезка на другой, различают параллелизм прямой («Спит животное Собака,/ Дремлет птица Воробей» (Н.А. Заболоцкий «Меркнут знаки Зодиака...») и обращенный («Играют волны, ветер свищет» («Парус» М.Ю. Лермонтова). Обращенный параллелизм также именуют хиазмом (гр. chiasmos – х-образность, крестообразность).
При сличении количества слов в парных синтаксических отрезках выделяют также параллелизм полный и неполный. Полный параллелизм (его распространенное название – изоколон; гр. isokolon – равночленность) – в двухсловных строках Ф. И. Тютчева «Опорожнены амфоры,/ Опрокинугы корзины» (стихотворение «Кончен пир, умолкли хоры…»), неполный – в его неравнословных строках «Помедли, помедли, вечерний день,/Продлись, продлись, очарованье» (стихотворение «Последняя любовь»).
К той же группе фигур относится такой распространенный прием, как инверсия (лат. inversio – перестановка). Она проявляется в расположении слов в словосочетании или предложении в порядке, отличном от естественного. В русском языке естественным является, к примеру, порядок «подлежащее + сказуемое», «определение + определяемое слово» или «предлог + имя существительное в падежной форме», а неестественным – обратный порядок.
Инвертированные слова могут располагаться во фразе по-разному. При контактной инверсии сохраняется смежность слов («Как трагик в провинции драму Шекспирову...» в «Марбурге» Б.Л. Пастернака), при дистантной – между ними вклиниваются другие слова «Покорный Перуну старик одному...» в «Песни о вещемОлеге» А.С. Пушкина). И в том, и в другом случае необычная позиция отдельного слова влияет на его интонационное выделение. В инвертированных конструкциях слова звучат более выразительно и веско.
К группе фигур, маркирующих необычную интонационную композицию текста или его отдельных частей, относятся разные виды синтаксического повтора, а также тавтология, анноминация и градация, полисиндетон и асиндетон.
Различают две подгруппы приемов повтора. К первой относятся приемы повтора отдельных частей внутри предложения. С их помощью авторы обычно подчеркивают семантически напряженное место во фразе, так как любой повтор есть интонационное выделение. Подобно инверсии, повтор может быть контактным («Пора, пора, рога трубят...» в поэме А.С. Пушкина «Граф Нулин») или дистантным («Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» в одноименном пушкинском стихотворении).
Простой повтор применяют к разные единицам текста – и к слову (как в приведенных примерах), и к словосочетанию («Вечерний звон, вечерний звон!» в переводе И. Козлова из Т. Мура). Повтор одного слова в различных падежах при сохранении его значения с античных времен опознают как особую фигуру – полиптотон (гр. polyptoton – многопадежие): «Но человека человек/ Послал к анчару властным взглядом...» (Пушкин, «Анчар). Столь же древней фигурой является антанакласис (гр. апtаnаklasis – отражение) – повтор слова в исходной грамматической форме, но с переменой значения. «Последний филин сломан и распилен./И, кнопкой канцелярскою пришпилен/ К осенней ветке книзу головой,/ Висит и размышляет головой...» (А. В. Еременко, «В густых металлургических лесах...») – здесь слово «головой» используется в прямом, а затем в метонимическом значении.
Ко второй подгруппе относятся фигуры повтора, распространяемые не на предложение, а на более крупную часть текста (строфу, синтаксический период), иногда на все произведение. Эти виды повтора различают по позиции в тексте. Так, анафора (гр. апaphora – вынесение; русский термин – единоначатие) – это скрепление речевых отрезков (колонов, стихотворных строк) с помощью повтора слова или словосочетания в начальной позиции: «Это – круто налившийся свист,/ Это – щелканье сдавленных льдинок,/ Это – ночь, леденящая лист,/ Это – двух соловьев поединок» (Б.Л. Пастернак, «Определение поэзии»). Эпифора (гр. ерiphora – добавка; русский термин –единоконечие), напротив, соединяет лексическим повтором концы речевых рядов: «Потому что обратили в лошадь добродетельного человека (...); потому что изморили добродетельного человека (...); потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека » (Гоголь, «Мертвые души», гл. 11). Спроецировав принцип эпифоры на цельный поэтический текст, можно увидеть ее развитие в явлении рефрена (например, в классической французской балладе).
Анадиплосис (гр. anadiplosis – сдваивание; русский термин – стык ) – это контактный повтор, связующий конец речевого ряда с началом следующего. Так связаны стихи Блока «О, весна без конца и без краю – /Без конца и без краю мечта». Анафора и эпифора часто выступают в малых лирических жанрах в роли структурообразующего приема. Но и анадиплосис может приобрести функцию композиционного стержня, вокруг которого выстраивается речь.
Анадиплосису противоположен прозаподосис (гр. prosapodosis – прибавление; русский термин – кольцо, охват), дистантный повтор, при котором начальный элемент синтаксической конструкции воспроизводится в конце следующей: «Мутно небо, ночь мутна... » («Бесы» А.С. Пушкина). Также прозаподосис может охватывать строфу (на кольцевых повторах построено стихотворение С.А. Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ...») и даже весь текст произведения («Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...» А. Блока).
К этой подгруппе относится и сложная фигура, образованная сочетанием анафоры и эпифоры в пределах одного и того же отрезка текста, – симплока (гр. simploce – сплетение): «Я не хочу Фалалея, / я ненавижу Фалалея, / я плюю на Фалалея, / я раздавлю Фалалея (...) я полюблю скорее Асмодея, / чем Фалалея!» (Ф.М. Достоевский, «Село Степанчиково и его обитатели», ч. 2, гл. 5).
Воспроизвести при повторе можно не только слово как единый знак, но и оторванное от знака значение. Тавтология (гр. tauto – то же самое, logos – слово), или плеоназм (гр. pleonasmos – излишек), – фигура, при использовании которой не обязательно повторяется слово, но обязательно дублируется значение какого-либо лексического элемента. Для этого авторы подбирают либо слова-синонимы, либо перифрастические обороты. Так, в стихотворении А. Еременко «Покрышкин» двойная тавтология интонационно выделяет на фоне общего потока речи колон «злая пуля бандитского зла».
С целью интонационного выделения семантически значимого речевого отрезка используют также анноминацию (лат. anominatio – подобословие) – контактный повтор однокоренных слов: «Думаю думу свою...» в «Железной дороге» Н. А. Некрасова.
К фигурам повтора близка градация (лат. gradatio – изменение степени), при которой слова, сфуппированные в ряд однородных членов, имеют общее семантическое значение (признака или действия), но их расположением выражено последовательное изменение этого значения. Проявление объединяющего признака может постепенно усиливаться или ослабевать: «Клянусь небом, несомненно, что ты прекрасна, неоспоримо, что ты красива, истинно, (...) что ты привлекательна» («Бесплодные усилия любви» Шекспира в пер. Ю. Корнеева). В этой фразе рядом «несомненно-неоспоримо-истинно» представлено усиление одного признака, а рядом «прекрасна-красива-привлекательна» – ослабление другого.
Кроме того, к группе средств интонационной разметки относятся полисиндетон (гр. polysyndeton – многосоюзие) и асиндетон (гр. asyndeton – бессоюзие). Как и градация, которой обе фигуры часто сопутствуют, они предполагают эмфатическое выделение соответствующей им части текста в звучащей речи. Полисиндетон по существу является не только многосоюзием («И жизнь, и слезы, и любовь» у Пушкина), но и многопредложием («О доблестях, о подвигах, о славе» у Блока). Его функция – или маркировать логическую последовательность действий («Осень» Пушкина: «И мысли в голове волнуются в отваге, / И рифмы легкие навстречу им бегут,/ И пальцы просятся к перу...»), или побуждать читателя к обобщению, к восприятию ряда деталей как цельного образа («Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» А.С. Пушкина: видовое «И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой/ Тунгус, и друг степей калмык» складывается при восприятии в родовое «народы Российской империи»). С помощью асиндетона подчеркивается либо одновременность действий («Швед, русский колет, рубит, режет...» в пушкинской «Полтаве»), либо дробность явлений изображенного мира («Шепот, робкое дыханье,/ Трели соловья,/ Серебро и колыханье/ Сонного ручья» у Фета).
Следует отметить, что данная классификация включает в себя не все традиционно выделяемые фигуры поэтической речи. Кроме них, в качестве наиболее распространенных фигур еще называются риторический вопрос, обращение и восклицание.
Использование писателем синтаксических фигур накладывает отпечаток индивидуальности на его авторский стиль. В настоящее время интерес к изучению синтаксических приемов как средств художественной стилистики значительно возрос. Исследование поэтического синтаксиса получило новое направление: современная наука все чаще анализирует явления, находящиеся на стыке разных сторон художественного текста, например ритма и синтаксиса, стихового метра и синтаксиса, лексики и синтаксиса, и т. д.
Не менее значимой, чем поэтический словарь, областью исследования выразительных средств является поэтический синтаксис. Изучение поэтического синтаксиса заключается в анализе функций каждого из художественных приемов отбора и последующей группировки лексических элементов в единые синтаксические конструкции. Если при имманентном исследовании лексики художественного текста в роли анализируемых единиц выступают слова, то при исследовании синтаксиса - предложения и фразы. Если при исследовании лексики устанавливаются факты отступления от литературной нормы при отборе слов, а также факты переноса значений слов (слово с переносным значением, т. е. троп, проявляет себя только в контексте, только при смысловом взаимодействии с другим словом), то исследование синтаксиса обязывает не только типологическому рассмотрению синтаксических единств и грамматических связей слов в предложении, но и к выявлению фактов корректировки или даже изменения значения целой фразы при семантическом соотношении ее частей (что обычно происходит в результате применения писателем т.н. фигур).
Уделять внимание авторскому отбору типов синтаксических конструкций необходимо потому, что этот отбор может быть продиктован тематикой и общей семантикой произведения. Обратимся к примерам, которыми послужат фрагменты двух переводов "Баллады повешенных" Ф.Вийона.
Нас пять повешенных, а может, шесть.
А плоть, немало знавшая услад,
Давно обожрана и стала смрад.
Костями стали - станем прах и гнилость.
Кто усмехнется, будет сам не рад.
Молите Бога, чтоб нам всё простилось.
(А.Парин, "Баллада повешенных")
Нас было пятеро. Мы жить хотели.
И нас повесили. Мы почернели.
Мы жили, как и ты. Нас больше нет.
Не вздумай осуждать - безумны люди.
Мы ничего не возразим в ответ.
Взглянул и помолись, а бог рассудит.
(И.Эренбург, "Эпитафия, написанная Вийоном для него
и его товарищей в ожидании виселицы")
Первый перевод более точно отражает композицию и синтаксис источника, но его автор в полной мере проявил свою поэтическую индивидуальность в отборе лексических средств: словесные ряды построены на стилистических антитезах (так, высокое слово "услады" сталкивается в пределах одной фразы с низким "обожрана"). С точки зрения стилистического многообразия лексики второй перевод видится обедненным. К тому же, мы можем заметить, Эренбург наполнил текст перевода короткими, "рублеными" фразами. Действительно, минимальная длина фраз переводчика Парина равна стиховой строке, и ей же равна максимальная длина фраз Эренбурга в приведенном отрывке. Случайно ли это?
По-видимому, автор второго перевода стремился к достижению предельной выразительности за счет использования исключительно синтаксических средств. Более того, выбор синтаксических форм он согласовал с выбранной Вийоном точкой зрения. Вийон наделил правом повествующего голоса не живых людей, а бездушных мертвецов, обращающихся к живым. Эту смысловую антитезу следовало подчеркнуть синтаксически. Эренбург должен был лишить речь повешенных эмоциональности, и потому в его тексте так много нераспространенных, неопределенно-личных предложений: голые фразы сообщают голые факты ("И нас повесили. Мы почернели..."). В этом переводе отсутствие оценочной лексики, вообще эпитетов - своеобразный "минус-прием".
Пример стихотворного перевода Эренбурга - логически обоснованное отступление от правила. Это правило по-своему формулировали многие писатели, когда касались вопроса о разграничении стихотворной и прозаической речи. А.С.Пушкин высказался о синтаксических свойствах стиха и прозы так:
"Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру - а они пишут: едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба - ах, как все это ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее. <...> Точность и краткость - вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое..." ("О русской прозе")
Следовательно, "блестящие выражения", о которых писал поэт, - а именно лексические "красоты" и разнообразие риторических средств, вообще типов синтаксических конструкций - явление в прозе не обязательное, но возможное. А в стихах - распространенное, потому что собственно эстетическая функция стихотворного текста всегда значительно оттеняет функцию информативную. Это доказывают примеры из творчества самого Пушкина. Синтаксически краток Пушкин-прозаик:
"Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко". ("Метель")
Напротив, Пушкин-поэт нередко многословен, выстраивает длинные фразы с рядами перифрастических оборотов:
Философ резвый и пиит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых аонид,
Почто на арфе златострунной
Умолкнул, радости певец?
Ужель и ты, мечтатель юный,
Расстался с Фебом наконец? <...>
("К Батюшкову")
Е.Г.Эткинд, анализируя это стихотворное послание, комментирует перифрастический ряд: "Пиит" - это старое слово означает "поэт". "Парнасский счастливый ленивец" - это тоже значит "поэт". "Харит изнеженный любимец" - "поэт". "Наперсник милых аонид" - "поэт". "Радости певец" - тоже "поэт". В сущности говоря, "мечтатель юный" и "философ резвый" - это тоже "поэт". <...> "Почто на арфе златострунной умолкнул..." Это значит: "Почему ты перестал сочинять стихи?" Но дальше: "Ужель и ты... расстался с Фебом..." <...> - это то же самое", - и заключает, что пушкинские строки "на все лады видоизменяют одну и ту же мысль: "Почему же ты, поэт, не пишешь больше стихов?"
Следует уточнить, что лексические "красоты" и синтаксические "длинноты" необходимы в стихах только тогда, когда они семантически или композиционно мотивированы. Многословность в поэзии может оказаться неоправданной. А в прозе столь же неоправдан лексико-синтаксический минимализм, если он возведен в абсолютную степень:
"Осел надел львиную шкуру, и все думали - лев. Побежал народ и скотина. Подул ветер, шкура распахнулась, и стало видно осла. Сбежался народ: исколотили осла".
("Осел в львиной шкуре")
Скупые фразы придают этому законченному произведению вид предварительного сюжетного плана. Выбор конструкций эллиптического типа ("и все думали - лев"), экономия значимых слов, приводящая к грамматическим нарушениям ("побежал народ и скотина"), наконец, экономия служебных слов ("сбежался народ: исколотили осла") определили излишний схематизм сюжета этой притчи, а потому ослабили ее эстетическое воздействие.
Другой крайностью является переусложнение конструкций, использование многочленных предложений с разными типами логических и грамматических связей, со множеством способов распространения. Например:
"Хорошо было год, два, три, но когда это: вечера, балы, концерты, ужины, бальные платья, прически, выставляющие красоту тела, молодые и немолодые ухаживатели, все одинакие, все что-то как будто знающие, имеющие как будто право всем пользоваться и надо всем смеяться, когда летние месяцы на даче с такой же природой, тоже только дающей верхи приятности жизни, когда и музыка и чтение, тоже такие же - только задирающие вопросы жизни, но не разрешающие их, - когда все это продолжалось семь, восемь лет, не только не обещая никакой перемены, но, напротив, все больше и больше теряя прелести, она пришла в отчаяние, и на нее стало находить состояние отчаяния, желания смерти" ("Что я видел во сне")
В сфере исследований русского языка не существует установившихся представлений о том, какой максимальной длины может достичь русская фраза. Однако читатели должны ощущать предельную затянутость данного предложения. Например, часть фразы "но когда всё это" не воспринимается как неточный синтаксический повтор, как парный элемент к части "но когда это". Потому что мы, доходя в процессе чтения до первой указанной части, не можем удержать в памяти уже прочитанную вторую часть: слишком далеко отстоят одна от другой в тексте эти части, слишком большим количеством деталей, упомянутых в пределах одной фразы, осложнил наше чтение писатель. Стремление автора к максимальной детализации при описании действий и психических состояний приводит к нарушениям логической связи частей предложения ("она пришла в отчаяние, и на нее стало находить состояние отчаяния").
Процитированные притча и рассказ принадлежат перу Л.Н. Толстого. Особенно легко определить его авторство при обращении ко второму примеру, и в этом помогает внимание к стилеобразующим синтаксическим приемам. Г.О.Винокур писал о приведенной выше цитате из рассказа: "... Я узнаю здесь Льва Толстого не только потому, что в этом отрывке говорится о том, о чем часто и обычно говорит этот писатель, и не только по тому тону, с каким обычно о подобных предметах он говорит, но также по самому языку, по синтаксическим его приметам... По мысли ученого, которую он высказывал неоднократно, важно прослеживать развитие языковых примет, авторского стиля в целом на всем протяжении творчества писателя, потому что факты эволюции стиля являются фактами биографии автора. Поэтому, в частности, необходимо прослеживать эволюцию стиля и на уровне синтаксиса.
Исследование поэтического синтаксиса предполагает также оценку фактов соответствия использованных в авторских фразах способов грамматической связи нормам национального литературного стиля. Здесь можно провести параллель с разностилевой пассивной лексикой как значимой частью поэтического словаря. В сфере синтаксиса, как и в сфере лексики, возможны варваризмы, архаизмы, диалектизмы и пр., потому что две эти сферы взаимосвязаны: по словам Б.В.Томашевского, "каждая лексическая среда обладает своими специфическими синтаксическими оборотами".
В русской литературе наиболее распространены синтаксические варваризмы, архаизмы, просторечия. Варваризм в синтаксисе возникает, если фраза построена по правилам иностранного языка. В прозе синтаксические варваризмы чаще опознаются как речевые ошибки: "Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа" в рассказе А.П.Чехова "Жалобная книга" - этот галлицизм настолько явный, что вызывает у читателя ощущение комизма. В русских стихах синтаксические варваризмы иногда использовались как приметы высокого стиля. Например, в балладе Пушкина "Жил на свете рыцарь бедный..." строка "Он имел одно виденье..." - образец такого варваризма: связка "он имел виденье" появляется вместо "ему было виденье". Здесь встречаем и синтаксический архаизм с традиционной функцией повышения стилевой высоты: "Несть мольбы Отцу, ни Сыну,/ Ни святому Духу ввек / Не случалось паладину..." (следовало бы: "ни Отцу, ни Сыну"). Синтаксические просторечия, как правило, присутствуют в эпических и драматических произведениях в речи персонажей для реалистического отражения индивидуального речевого стиля, для автохарактеристики героев. С этой целью к использованию просторечий прибегал Чехов: "Ваш папаша говорили мне, что оне надворный советник, а оказывается теперь, оне всего только титулярный" ("Перед свадьбой"), "Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?" ("Ионыч").
Особую важность для выявления специфики художественной речи имеет изучение стилистических фигур (также их именуют риторическими - по отношению к частной научной дисциплине, в рамках которой теория тропов и фигур была впервые разработана; синтаксическими - по отношению к той стороне поэтического текста, для характеристики которой требуется их описание).
Учение о фигурах складывалось уже в те времена, когда складывалось учение о стиле, - в эпоху Античности; развивалось и дополнялось - в Средние века; наконец, окончательно превратилось в постоянный раздел нормативных "поэтик" (учебников по поэтике) - в Новое время. Первые опыты описания и систематизации фигур представлены в античных латинских трактатах по поэтике и риторике (более полно - в "Воспитании оратора" Квинтилиана). Античная теория, по словам М.Л.Гаспарова, "предполагала, что есть некоторое простейшее, "естественное" словесное выражение всякой мысли (как бы дистиллированный язык без стилистического цвета и вкуса), а когда реальная речь как-нибудь отклоняется от этого трудновообразимого эталона, то каждое отдельное отклонение может быть отдельно и учтено как "фигура".
Тропы и фигуры были предметом единого учения: если "троп" - изменение "естественного" значения слова, то "фигура" - изменение "естественного" порядка слов в синтаксической конструкции (перестановка слов, пропуск необходимых или использование "лишних" - с точки зрения "естественной" речи - лексических элементов). Заметим также, что в пределах обыденной речи, не имеющей установки на художественность, образность, обнаруживаемые "фигуры" часто рассматриваются как речевые ошибки, но в пределах художественно ориентированной речи те же фигуры обычно выделяются как действенные средства поэтического синтаксиса.
В настоящее время существует множество классификаций стилистических фигур, в основу которых положен тот или иной - количественный или качественный - дифференцирующий признак: словесный состав фразы, логическое или психологическое соотношение ее частей, и т.д. Ниже мы перечислим особо значимые фигуры, учитывая три фактора:
1. Необычную логическую или грамматическую связь элементов синтаксических конструкций.
2. Необычное взаиморасположение слов во фразе или фраз в тексте, а также элементов, входящих в состав разных (смежных) синтаксических и ритмико-синтаксических конструкций (стихов, колонов), но обладающих грамматическим подобием.
3. Необычные способы интонационной разметки текста с помощью синтаксических средств.
С учетом доминирования отдельного фактора мы выделим соответствующие группы фигур. Но подчеркнем, что в некоторых случаях в одной и той же фразе можно обнаружить и нетривальную грамматическую связь, и оригинальное расположение слов, и приемы, указывающие на специфическую интонационную "партитуру" в тексте: в пределах одного и того же отрезка речи могут совмещаться не только разные тропы, но и разные фигуры.
К группе приемов нестандартной связи слов в синтаксические единства относятся эллипс, анаколуф, силлепс, алогизм, амфиболия (фигуры, отличающиеся необычной грамматической связью), а также катахреза, оксюморон, гендиадис, эналлага (фигуры с необычной семантической связью элементов).
Одним из самых распространенных не только в художественной, но и в обыденной речи синтаксических приемов является эллипс (греч. elleipsis- оставление). Это имитация разрыва грамматической связи, заключающаяся в пропуске слова или ряда слов в предложении, при котором смысл пропущенных членов легко восстанавливается из общего речевого контекста. Данный прием чаще всего используется в эпических и драматических сочинениях при построении диалогов персонажей: с его помощью авторы придают жизнеподобие сценам общения своих героев.
Эллиптическая речь в художественном тексте производит впечатление достоверной, потому что в жизненной ситуации разговора эллипс является одним из основных средств композиции фраз: при обмене репликами он позволяет пропускать ранее прозвучавшие слова. Следовательно, в разговорной речи за эллипсами закреплена исключительно практическая функция: говорящий передает собеседнику информацию в необходимом объеме, используя при этом минимальный лексический запас.
Между тем, использование эллипса как выразительного средства в речи художественной может быть мотивировано и установкой автора на психологизм повествования. Писатель, желая изобразить различные эмоции, психологические состояния своего героя, может от сцены к сцене менять его индивидуальный речевой стиль. Так, в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников часто изъясняется эллиптическими фразами. В его разговоре с кухаркой Настасьей (ч.I, гл.3) эллипсы служат дополнительным средством выражения его отчужденного состояния:
- …Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?
Я [кое-что] делаю… - нехотя и сурово проговорил Раскольников.
Что [ты] делаешь?
- [Я делаю] Работу…
Каку работу [ты делаешь]?
- [Я] Думаю, - серьезно отвечал он помолчав.
Здесь мы видим, что пропуск одних слов подчеркивает особую смысловую нагрузку оставшихся других.
Часто эллипсы обозначают и стремительную смену состояний или действий. Такова, например, их функция в пятой главе «Евгения Онегина», в повествовании о сне Татьяны Лариной: «Татьяна ах! а он реветь…», «Татьяна в лес, медведь за нею…».
И в быту, и в литературе речевой ошибкой признается анаколуф (греч. anakoluthos - непоследовательный) - неверное использование грамматических форм при согласовании и управлении: "Чувствуемый оттуда запах махорки и какими-то прокислыми щами делал почти невыносимым жизнь в этом месте" (А.Ф.Писемский, "Старческий грех"). Однако его применение может быть оправдано в тех случаях, когда писатель придает экспрессию речи персонажа: "Стой, братцы, стой! Ведь вы не так сидите!" (в басне Крылова "Квартет").
Напротив, скорее сознательно примененным приемом, чем случайной ошибкой, оказывается в литературе силлепс (греч. syllepsis - сопряжение, захват), заключающийся в синтаксическом оформлении семантически неоднородных элементов в виде ряда однородных членов предложения: "Половой этот носил под мышкой салфетку и множество угрей на щеках" (Тургенев, "Странная история").
Европейские писатели ХХ в., особенно представители "литературы абсурда", регулярно обращались к алогизму (греч. a - отрицательная частица, logismos - разум). Эта фигура представляет собой синтаксическое соотнесение семантически несоотносимых частей фразы с помощью ее служебных элементов, выражающих определенный тип логической связи (причинно-следственные, родо-видовые отношения и пр.): "Автомобиль быстро ездит, зато кухарка лучше готовит" (Э.Ионеско, "Лысая певица"), "Как чуден Днепр при тихой погоде, так ты, Ненцов, здесь зачем?" (А.Введенский, "Минин и Пожарский").
Если анаколуф чаще видится ошибкой, чем художественным приемом, а силлепс и алогизм - чаще приемом, чем ошибкой, то амфиболия (греч. amphibolia) всегда воспринимается двояко. Двойственность - в самой ее природе, так как амфиболия - это синтаксическая неразличимость подлежащего и прямого дополнения, выраженных именами существительными в одинаковых грамматических формах. "Слух чуткий парус напрягает..." в одноименном стихотворении Мандельштама - ошибка или прием? Можно понять так: "Чуткий слух при желании его обладателя уловить шорох ветра в парусах волшебным образом действует на парус, заставляя его напрягаться", - или так: "Раздутый ветром (т.е. напряженный) парус привлекает внимание, и человек напрягает слух". Амфиболия оправдана только тогда, когда оказывается композиционно значимой. Так, в миниатюре Д.Хармса "Сундук" герой проверяет возможность существования жизни после смерти самоудушением в запертом сундуке. Финал для читателя, как и планировал автор, неясен: либо герой не задохнулся, либо задохнулся и воскрес, - так как герой двусмысленно резюмирует: "Значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом".
Необычную семантическую связь частей словосочетания или предложения создают катахреза (см. раздел "Тропы") и оксюморон (греч. oxymoron - остроумно-глупое). В том и другом случае - логическое противоречие между членами единой конструкции. Катахреза возникает в результате употребления стертой метафоры или метонимии и в рамках "естественной" речи оценивается как ошибка: "морское путешествие" - противоречие между "плыть по морю" и "шествовать по суше", "устное предписание" - между "устно" и "письменно", "Советское шампанское" - между "Советский Союз" и "Шампань". Оксюморон, напротив, является запланированным следствием применения свежей метафоры и даже в обыденной речи воспринимается как изысканное образное средство. "Мама! Ваш сын прекрасно болен!" (В.Маяковский, "Облако в штанах") - здесь "болен" является метафорической заменой "влюблен".
К числу редких в русской литературе и потому особенно заметных фигур относится гендиадис (от греч. hen dia dyoin - одно через два), при котором сложные прилагательные разделяются на исходные составляющие части: "тоска дорожная, железная" (А.Блок, "На железной дороге"). Здесь расщеплению подверглось слово "железнодорожная", в результате чего три слова вступили во взаимодействие - и стих приобрел дополнительный смысл. Е.Г.Эткинд, касаясь вопроса о семантике эпитетов "железная", "железный" в поэтическом словаре Блока, заметил: "Железная тоска" - это словосочетание бросает отсвет и на другое, на сочетание "железная дорога", тем более что рядом поставлены два определения, устремленные друг к другу <...>, как бы и образующие одно слово "железнодорожная", и в то же время отталкивающиеся от этого слова - оно обладает совсем иным значением. "Железная тоска" - это отчаяние, вызванное мертвым, механическим миром современной - "железной" - цивилизации".
Особую семантическую связь получают слова в колоне или стихе в том случае, когда писатель применяет эналлагу (греч. enallage - перемещение) - перенос определения на слово, смежное с определяемым. Так, в строке "Сквозь мяса жирные траншеи..." из стихотворения Н.Заболоцкого "Свадьба" определение "жирные" стало ярким эпитетом после перенесения с "мяса" на "траншеи". Эналлага - примета многословной поэтической речи. Применение этой фигуры в эллиптической конструкции приводит к плачевному результату: стих "Знакомый труп лежал в долине той..." в балладе Лермонтова "Сон" - образец непредвиденной логической ошибки. Сочетание "знакомый труп" должно было означить "труп знакомого [человека]", но для читателя фактически означает: "Этот человек давно знаком героине именно как труп".
К числу фигур с необычным взаиморасположением частей синтаксических конструкций относятся различные виды параллелизма и инверсии.
Параллелизм (от греч. parallelos - идущий рядом) предполагает композиционную соотнесенность смежных синтаксических отрезков текста (строк в стихотворном произведении, предложений в тексте, частей в предложении). Виды параллелизма обычно выделяют на основании какого-либо признака, которым обладает первая из соотносимых конструкций, служащая для автора образцом при создании второй.
Так, проецируя порядок слов одного синтаксического отрезка на другой, различают параллелизм прямой ("Спит животное Собака, / Дремлет птица Воробей" в стих. Заболоцкого "Меркнут знаки Зодиака...") и обращенный ("Играют волны, ветер свищет" в "Парусе" Лермонтова). Мы можем записать колоны лермонтовской строки вертикально:
играют волны
ветер свищет
И увидим, что во втором колоне подлежащее и сказуемое даны в обратном порядке относительно расположения слов в первом. Если теперь графически соединить существительные и - отдельно - глаголы, можно получить образ греческой буквы "". Поэтому обращенный параллелизм также именуют хиазмом (греч. chiasmos - -образность, крестообразность).
При сличении количества слов в парных синтаксических отрезках выделяют также параллелизм полный и неполный. Полный параллелизм (его распространенное название - изоколон; греч. isokolon - равночленность) - в двухсловных строках Тютчева "Опорожнены амфоры, / Опрокинуты корзины" (стих. "Кончен пир, умолкли хоры..."), неполный - в его неравнословных строках "Помедли, помедли, вечерний день,/ Продлись, продлись, очарованье" (стих. "Последняя любовь"). Существуют и другие виды параллелизма.
К той же группе фигур относится такое популярное поэтическое средство, как инверсия (лат. inversio - перестановка). Она проявляется в расположении слов в словосочетании или предложении в порядке, отличном от естественного. В русском языке естественным является, к примеру, порядок "подлежащее + сказуемое", "определение + определяемое слово" или "предлог + имя существительное в падежной форме", а неестественным - обратный порядок.
"Эрота выспренних и стремных крыльях на...", - так начинается пародия известного сатирика начала ХХ в. А.Измайлова на стихи Вячеслава Иванова. Пародист заподозрил поэта-символиста в злоупотреблении инверсиями, поэтому перенасытил ими строки своего текста. "Эрота крыльях на" - порядок неправильный. Но если отдельная инверсия "Эрота крылья" вполне допустима, более того - ощущается как традиционная для русской поэзии, то "крыльях на" осознается как признак не художественности речи, а косноязычия.
Инвертированные слова могут располагаться во фразе по-разному. При контактной инверсии сохраняется смежность слов ("Как трагик в провинции драму Шекспирову..." у Пастернака), при дистантной - между ними вклиниваются другие слова ("Покорный Перуну старик одному..." у Пушкина). И в том, и в другом случае необычная позиция отдельного слова влияет на его интонационное выделение. Как отмечал Томашевский, "в инверсированных конструкциях слова звучат более выразительно, более веско".
К группе фигур, маркирующих необычную интонационную композицию текста или его отдельных частей, относятся разные виды синтаксического повтора, а также тавтология, анноминация и градация, полисиндетон и асиндетон.
Различают две подгруппы приемов повтора. К первой относятся приемы повтора отдельных частей внутри предложения. С их помощью авторы обычно подчеркивают семантически напряженное место во фразе, так как любой повтор есть интонационное выделение. Подобно инверсии, повтор может быть контактным ("Пора, пора, рога трубят..." в поэме Пушкина "Граф Нулин") или дистантным ("Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит..." в одноименном пушкинском стих.).
Простой повтор применяют к разным единицам текста - и к слову (как в вышеприведенных примерах), и к словосочетанию ("Вечерний звон, вечерний звон!" в переводе И.Козлова из Т.Мура) - не изменяя грамматические формы и лексическое значение. Повтор одного слова в разных падежных формах при сохранении его значения с античных времен опознают как особую фигуру - полиптотон (греч. polyptoton - многопадежие): "Но человека человек / Послал к анчару властным взглядом..." (Пушкин, "Анчар"). На полиптотоне, по наблюдению Р.Якобсона, построена "Сказка о красной шапочке" Маяковского, в которой представлена полная парадигма падежных форм слова "кадет". Столь же древней фигурой является антанакласис (греч. antanaklasis - отражение) - повтор слова в исходной грамматической форме, но с переменой значения. "Последний филин сломан и распилен. / И, кнопкой канцелярскою пришпилен / К осенней ветке книзу головой, // Висит и размышляет головой..." (А.Еременко, "В густых металлургических лесах...") - здесь слово "головой" используется в прямом, а затем в метонимическом значении.
Ко второй подгруппе относятся фигуры повтора, распространяемые не на предложение, а на более крупную часть текста (строфу, синтаксический период), иногда на всё произведение. Такие фигуры маркируют интонационное уравнивание тех частей текста, на которые они были распространены. Эти виды повтора различают по позиции в тексте. Так, анафора (греч. anaphora - вынесение; отеч. термин - единоначатие) - это скрепление речевых отрезков (колонов, стихов) с помощью повтора слова или словосочетания в начальной позиции: "Это - круто налившийся свист, / Это - щелканье сдавленных льдинок, / Это - ночь, леденящая лист, / Это - двух соловьев поединок" (Пастернак, "Определение поэзии"). Эпифора (греч. epiphora - добавка; отеч. термин - единоконечие), напротив, соединяет лексическим повтором концы речевых рядов: "Фестончики, всё фестончики: || пелеринка из фестончиков, | на рукавах фестончики, | эполетцы из фестончиков, | внизу фестончики, | везде фестончики" (Гоголь, "Мертвые души"). Спроецировав принцип эпифоры на цельный поэтический текст, мы увидим ее развитие в явлении рефрена (например, в классической балладе).
Анадиплосис (греч. anadiplosis - сдваивание; отеч. термин - стык) - это контактный повтор, связующий конец речевого ряда с началом следующего. Так связаны колоны в строках С.Надсона "Только утро любви хорошо: | хороши Только первые, робкие речи", так связаны стихи Блока "О, весна без конца и без краю - / Без конца и без краю мечта". Анафора и эпифора часто выступают в малых лирических жанрах в роли структурообразующего приема. Но и анадиплосис может приобрести функцию композиционного стержня, вокруг которого выстраивается речь. Из длинных цепей анадиплосисов сложены, например, лучшие образцы ранней ирландской лирики. Среди них едва ли не древнейшим является анонимное "Заклинание Амергина", датируемое предположительно V-VI в. н.э. (ниже приведен его фрагмент в синтаксически точном переводе В.Тихомирова):
Эрин кличу я зычно
Зычное море тучно
Тучны на взгорье травы
Травы в дубравах сочны
Сочна в озерах влага
Влагой богат источник
Источник племен единый
Единый владыка Темры...
Анадиплосису противоположен прозаподосис (греч. prosapodosis - прибавление; отеч. термин - кольцо, охват), дистантный повтор, при котором начальный элемент синтаксической конструкции воспроизводится в конце следующей: "Мутно небо, ночь мутна..." в "Бесах" Пушкина. Также прозаподосис может охватывать строфу (на кольцевых повторах построено стих. Есенина "Шаганэ ты моя, Шаганэ...") и даже весь текст произведения ("Ночь. Улица. Фонарь. Аптека..." А.Блока)
К этой подгруппе относится и сложная фигура, образованная сочетанием анафоры и эпифоры в пределах одного и того же отрезка текста, - симплока (греч. symploce - сплетение): "Я не хочу Фалалея, | я ненавижу Фалалея, | я плюю на Фалалея, | я раздавлю Фалалея, | <...> я полюблю скорее Асмодея, | чем Фалалея!" (Достоевский, "Село Степанчиково и его обитатели") - этот пример из монолога Фомы Опискина служит наглядным свидетельством того, что интонационно подчеркнутыми бывают не только повторяющиеся элементы: при симплоке в каждом колоне выделяются слова, обрамленные анафорой и эпифорой.
Воспроизвести при повторе можно не только слово как единый знак, но и оторванное от знака значение. Тавтология (греч. tauto - то же самое, logos - слово), или плеоназм (греч. pleonasmos - излишек), - фигура, при использовании которой не обязательно повторяется слово, но обязательно дублируется значение какого-либо лексического элемента. Для этого авторы подбирают либо слова-синонимы, либо перифрастические обороты. Нарочитое применение писателем тавтологии создает у читателя ощущение словесного избытка, нерационального многословия, заставляет его обратить внимание на соответствующий отрезок речи, а декламатора - интонационно обособить весь этот отрезок. Так, в стих. А.Еременко "Покрышкин" двойная тавтология интонационно выделяет на фоне общего потока речи колон "злая пуля бандитского зла".
С целью интонационного выделения семантически значимого речевого отрезка используют также анноминацию (лат. annominatio - подобословие) - контактный повтор однокоренных слов: "Думаю думу свою..." в "Железной дороге" Н.Некрасова. Эта фигура распространена в песенном фольклоре и в произведениях поэтов, в творчестве которых сказалось их увлечение стилизацией речи.
К фигурам повтора близка градация (лат. gradatio - изменение степени), при которой слова, сгруппированные в ряд однородных членов, имеют общее семантическое значение (признака или действия), но их расположением выражено последовательное изменение этого значения. Проявление объединяющего признака может постепенно усиливаться или ослабевать: "Клянусь небом, несомненно, что ты прекрасна, неоспоримо, что ты красива, истинно, <...> что ты привлекательна" ("Бесплодные усилия любви" Шекспира в пер. Ю.Корнеева). В этой фразе рядом "несомненно-неоспоримо-истинно" представлено усиление одного признака, а рядом "прекрасна-красива-привлекательна" - ослабление другого. Вне зависимости от того, усиливается или ослабевает признак, градуированную фразу произносят с нарастающей эмфазой (интонационной выразительностью): "Прозвучало над ясной рекою, / Прозвенело в померкшем лугу, / Прокатилось над рощей немою..." (Фет, "Вечер").
Кроме того, к группе средств интонационной разметки относятся полисиндетон (греч. polysyndeton - многосоюзие) и асиндетон (греч. asyndeton - бессоюзие). Как и градация, которой обе фигуры часто сопутствуют, они предполагают эмфатическое выделение соответствующей им части текста в звучащей речи. Полисиндетон по существу является не только многосоюзием ("и жизнь, и слезы, и любовь" у Пушкина), но и многопредложием ("о доблестях, о подвигах, о славе" у Блока). Его функция - или маркировать логическую последовательность действий ("Осень" Пушкина: "И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, / И пальцы просятся к перу...") или побуждать читателя к обобщению, к восприятию ряда деталей как цельного образа ("Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." Пушкина: видовое "И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой / Тунгус, и друг степей калмык" складывается при восприятии в родовое "народы Российской империи"). А с помощью асиндетона подчеркивается либо одновременность действий ("Швед, русский колет, рубит, режет..." в пушкинской "Полтаве"), либо дробность явлений изображенного мира ("Шепот. Робкое дыханье. / Трели соловья. / Серебро и колыханье / Сонного ручья" у Фета).
Использование писателем синтаксических фигур накладывает отпечаток индивидуальности на его авторский стиль. К середине ХХ в., к тому времени, когда понятие "творческая индивидуальность" существенно обесценилось, изучение фигур перестало быть актуальным, что зафиксировано А.Квятковским в его "Словаре поэтических терминов" 1940 г. издания: "В настоящее время названия риторических фигур сохранились за тремя наиболее устойчивыми явлениями стиля, как-то: 1) риторический вопрос <..>, 2) риторическое восклицание <...>, 3) риторическое обращение...". Сегодня возрождается интерес к изучению синтаксических приемов как средств художественной стилистики. Исследование поэтического синтаксиса получило новое направление: современная наука все чаще анализирует явления, находящиеся на стыке разных сторон художественного текста, например, ритма и синтаксиса, стихового метра и синтаксиса, лексики и синтаксиса, и т.д.
Список литературы
Античные риторики / Под общ. ред. А.А.Тахо-Годи. М., 1978.
Античные теории языка и стиля / Под общ. ред. О.М.Фрейденберг. М.; Л., 1936.
Горнфельд А.Г. Фигура в поэтике и риторике // Вопросы теории и психологии творчества. 2-е изд. Харьков, 1911. Т.1.
Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.М. и др. Общая риторика. М., 1986.
Корольков В.И. К теории фигур // Сб. науч. трудов Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков. Вып.78. М., 1974.
Очерки истории языка русской поэзии ХХ века: Грамматические категории. Синтаксис текста. М., 1993.
Поспелов Г.Н. Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина. М., 1960.
Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение: Курс лекций. Л., 1959.
Якобсон Р. Грамматический параллелизм и его русские аспекты // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
Lausberg H. Handbuch der literaturischen Rhetorik: eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. Bd.1-2. Munchen, 1960.
Todorov T. Tropes et figures // To honor R.Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday. The Hague; P., 1967. Vol.3.
См., например, статьи М.Тарлинской, Т.В.Скулачевой, М.Л.Гаспарова, Н.А.Кожевниковой в изд.: Славянский стих: Лингвистическая и прикладная поэтика / Под ред. М.Л.Гаспарова, А.В.Прохорова, Т.В.Скулачевой. М., 2001.
Кроме тропов, лексических средств образности и выразительности языка в значительной степени способствуют поэтический синтаксис и элементы фоники.
Поэтический синтаксис – это система специальных средств построения речи. Особенности строения речи в произведении всегда связанны со своеобразием изображаемых в нем характеров и жизненных положений, с авторской точки зрения. Другая важная особенность синтаксиса поэтической речи определяется тем, что в литературном произведении люди изображаются в движении, в процессе изменения их внутреннего состояния, отношений. Все это отражается в построении поэтической речи.
Специальные средства синтаксиса образно- выразительной речи называются фигурами поэтической речи. Фигуры помогают значительно усилить полноту и выразительность смысловых и эмоциональных оттенков речи: многосоюзие создает некоторую замедленность речи, бессоюзие используется чаще всего для усиления ощущения стремительно и напряженного развития событий, резких переходов во внутреннем состоянии человека, инверсия, при которой один из ленов предложения становиться на необычное для него место, чем особо выделяются. В инверсионных конструкциях перераспределение логического ударения и интонационное обособление слов, т. е. Слова звучат более выразительно, более высоко.
« Буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей
не засаленном кушаке,
вашу мысль,
досыта изъиздеваюсь, нахальный
В этом отрывке Маяковского из поэмы «Облако в штанах» яркий пример инверсий. У него же взволнованная интонация закреплена в сложных инверсиях « в неба свисшие зубы»; « сердце - с длинноволосыми открытками благороднейший альбом»; « граненых строчек босой алмазник»; « юноше обдумывающему житье…скажу» и другие.
§2.Обрыв, риторическое общение, вопрос, отрицание, утверждение восклицание.
Повышению эмоциональной выразительности служит и пропуск одного из членов предложения; Обрыв – включение в речь недосказанных предложений. В поэме Маяковского «В.И. Ленин» читаем:
« Что ты видишь?!
Только лоб его лишь,
И надеждп Константиновна
В тумане за…
Может быть, в глаза без слез
Увидеть можно больше.
Не в такие я смотрел глаза.
Здесь обрыв служит для передачи глубокого внутреннего потрясения. Синтаксическими фигурами, в которых авторское отношение к явлению и его оценка выражаются особенно отчетливо, называют риторические обращения, вопросы, отрицания, утверждения, восклицания.
У Маяковского, вся система выразительных средств которого в высшей степени интенсивна, направлена на предельно драматизированное речевое выражение лирического героя, эти фигуры используются максимально:
« Бей, барабан!
Барабан, барабань!
Были рабы! Нет раба!
Барабань!
Барабань!
(« 150 000 000»)
Тоньше писка.
Кто её слышит? –
Разве жена!»
(« В.И. Ленин»)
« Довольно!
Разговорам посторонним!»
(« В.И. Ленин»)
« Кончайте войну!
Довольно!
(«Хорошо»)
« Закройте, время,
вашу пасть!»
(«Хорошо»)
Это помогает Маяковскому имитировать фиктивный диалог, под видом произвольного эмоционального отзыва на внешнее явление делать обыкновенное сообщение об этом явлении, заострять эмоциональное внимание слушателя.
§3.Фоника, аллитерация, ассонанс.
Фоника – это художественное использование в поэтической речи звуковых возможностей. В неё входят общие правила звукового согласования слов в поэтической речи, которые способствуют ее благозвучию, стройности, отчетливости, и использование специальных средств звукового усиления и эмоционального выделения некоторых слов и предложений.
Специальным средством звукового усиления, выделения определенных отрезков речи основаны на использовании звуковых повторов.
Аллитерация - это отчетливо выступающие в речи повторение согласных звуков. Повторение гласных называется ассонансом.
Маяковский писал:» Я прибегаю к аллитерации для обрамления, для ещё большей подчеркнутости важного для меня слова»
Аллитерации и ассонансы Маяковского придают эмоционально запоминающиеся звучание поэтическому тексту: « И жуток шуток клюющий смех», слезают слезы с…»;
« рука реки»; « У вас в усах», « в хорах архангелова хорола бог, ограбленный, идет карать!» («Облако»), « ничуть не смущаясь челюстей целостью, пошли греметь о челюсть челюстью» («Про это»), « Я над глобусом отгорья горблюсь» («Про это»),» Город грабил, грёб, грабастал» (« В.И. Ленин»), « Нож – ржа. Режу. Радуюсь. В голове жар подымает градус («Хорошо»).
С помощью использования фонетических средств стиха образцы Маяковского становятся обобщенными, выпуклыми, отвлеченное одухотворяется.
Слово Маяковского действительно звучит (« слов набат», « слово поднимающее гром»). Вся система выразительных средств Маяковского максимально использует все художественные ресурсы русского языка, поэтому его называют поэтом – новатором. Но новаторство не состоялось бы, если бы не было страстного лирического «Я»поэта, того, кто именно так увидел, пережил мир и выплеснул в стихах свои душевнее муки. Именно при этих условиях все выразительно- изобразительные средства становятся художественными, кроме того, когда органически входят в ткань произведения. Их выбор зависит от усилий и задач художника слова.
Заключение.
Мне трудно определить свое отношение к стихам Маяковского. Дело в том, что они, на мой взгляд, противоположности» простому, как мычание». Его очень необычное многословные образы трудно понять, даже не столько понять, сколько прочитать. Некоторые из них я не могу понять, они мне не нравятся, например, « морда комнаты выносилась ужасом», « улица провалилась, как нос сифилитика», « вытечет по человеку наш обрюзгший жир», « у меня изо рта шевелит ногами новорожденный крик» и т.п. другие же наоборот, очень интересны, и выразительны, очень сильные, такие как « я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека», « последняя в мире любовь выразилась в румянце чахоточного», « бабочка поэтиного сердца» и т.п. Многие образы, которые сейчас мне оченть нарвятся, сначала, при первом чтении, вызвали у меня неприятие, даже некоторое отвращение, например: « Земля! Давай исцелую твою лысеющую голову лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот», « стихами наполненный череп» и т.д. Я очень часто за несколько слов, за одну фразу могу признать писателя гением. У Маяковского эта срочка» Послущайте!, Ведь, если звезды зажигают- значит - это кому-нибудь нужно?». Это одна из моих любимых сторк.
Маяковский в стихах обычно говорит о самом себе, об окружающих людыя, о боге. Очень часто он рисует людей отвратительными обжорами, залезшими в раковину вещей, но в то же время он собирает их слезв, их боли, это становиться для него непосильным грузом, но он все ровно « ползет дальше», чтобы бросить их « темному богу гроз у истока звериных веор». Но люди все-таки благодарны, и в творчестве Маяковского продолжается традиция « любви – ненависти». Бог для поэта не таинство, не Сущий, а человек, причем довольно обыкновенный, несколько более интересный, чем остальные. Потрясающий стих открывает не только его отношение, но ещё и противоречивость личности поэта: « И когда мой голос похабно ухает…может быть, Иисус Христос нюхает моей души незабудки».
Лекция 19
СТИЛИСТИКА. ПОЭТИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС
Обратимся теперь к вопросам поэтического синтаксиса, которым завершается раздел стилистики.
Прежде всего к группе синтаксических вопросов относится употребление частей речи. В языках флективных, относящихся к индоевропейской группе, мы различаем существительное, прилагательное, глагол, наречие и целую группу формальных и полуформальных слов, к которой относятся местоимения, предлоги, союзы и т. д.
Существительное в основном означает предметы, прилагательное- качество, глагол - действие. В языках нашего типа эта значимость той или иной категории части речи дается ее оформлением. Прилагательное как грамматическая категория означает качество, но качество «белый» может быть выражено не только в форме прилагательного. Наличие грамматически оформленных частей речи позволяет, например, то, что по содержанию является качеством («белый»), выразить и как предмет («белизна»), и как действие («белеет»). Мы можем действие («летать») мыслить как качество («летающий»), действие мыслить как предмет («летание» - отглагольное существительное). Следовательно, возможно известное противоречие между формой и содержанием слова. Это надо учитывать для ряда вопросов, имеющих прямое отношение к стилистике.
Выражая то или иное понятие с помощью существительного, мы тем самым его опредмечиваем. Это возможно при отвлечении эпитета: «белизна паруса» или «серебро ручья» вместо «белый парус» или «серебряный ручей». Такую же стилистическую роль играет глагол в метафорическом или метонимическом олицетворении. Когда мы говорим «солнце всходит» или «туча пролетает», то наличие глагола, связанного с предметом, производя-
щим действие, в наших языках уже по самой форме своей является олицетворением. «Туча пролетает» так же, как мы сказали бы «птица пролетает». Или метонимическое олицетворение. Если подлежащим является абстрактное понятие, например:
...Надежда им
Лжет детским лепетом своим...
(Пушкин)
или:
Надежда меня обманула... , -
то отвлеченное слово «надежда» становится действующим лицом по отношению к действию («лжет», «обманула»), и мы вступаем на путь метонимического олицетворения. Эти соображения показывают, какое значение грамматическая форма выражения может иметь для поэтического стиля.
Когда мы подходим к отрывку с точки зрения тематической, с точки зрения содержания, когда, например, характеризуем описание природы с точки зрения того, какие краски, какие звуки в этом описании природы участвуют, то нам совершенно все равно, скажет ли поэт «розовый» или «розовеет», скажет ли он «белый парус» или «белизна паруса». Тематический элемент здесь одинаковый. Но если мы к одинаковой теме подойдем с точки зрения того, как это выражено: «приятности вечера вокруг меня толпились», то тут очень важно - «приятность вечера» как некоторое олицетворенное отвлеченное понятие, или «приятный вечер», где «приятный» выражено как качество.
Среди разных грамматических категорий выделим прежде всего прилагательное как качественное слово. С наличием прилагательных как качественных слов теснейшим образом связана вся описательная сторона поэзии. Возьмем для примера описание природы у Тургенева, хотя бы уже цитированное мною описание ночи («Две встречи»). Обратим внимание на роль, которую играют прилагательные в создании картины: «Молодые яблони кое-где возвышались над поляной; сквозь их жидкие ветви кротко синело ночное небо, лился дремотный свет луны; перед каждой яблоней лежала на белеющей траве ее слабая пестрая тень. С одной стороны сада липы смутно зеленели, облитые неподвижным бледно-ярким светом, с другой - они стояли все черные и непрозрачные, странный, сдержанный шорох возникал по временам в их сплошной листве; они как будто звали на пропадавшую под ними дорожку, как будто манили под свою глухую сень. Все небо было испещрено звездами; таинственно струилось с вершины их голубое, мягкое мерцание...» и т. д.
Все описание построено на наличии при предметах этих определяющих качественных слов.
Возьмем другой пример, стихотворение Тютчева:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора -
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все - простор везде,-
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде...
А вот отрывок стихотворения Бальмонта, который любит нагромождать ряд прилагательных-определений, создающих колорит его описаний природы:
Побледневшие, нежно-стыдливые,
Распустились в болотной глуши
Белых лилий цветы молчаливые...
Или:
Ровный, плоский, одноцветный,
Безглагольный, беспредметный,
Солнцем выжженный песок...
Вопрос о прилагательных давно поставлен в стилистике именно вследствие большого их значения для описания качеств предмета. Вопрос этот ставился в связи с поэтической фигурой, которая получила название «эпитет» (прилагательное как эпитет).
Сейчас в теориях словесности под эпитетом склонны понимать любое определение предмета, но, собственно говоря, эпитет как поэтическая фигура означает некоторое специальное употребление прилагательных, которое было характерно для народной поэзии с ее так называемыми «постоянными» эпитетами, получившими впоследствии широкое распространение в поэзии классицизма XVII-XVIII веков. На примере так называемых «постоянных» эпитетов народной поэзии я хотел бы объяснить, что представляет собой эпитет как поэтическая фигура.
В эпосе, например в русской былине, мы встречаем «постоянные» эпитеты, или, как говорили в старинных стилистиках, «украшающие» эпитеты: «столы дубовые», «яствушки сахарные», «стремячко шелковое», «добрый молодец», «красна девица» и т. п. Такие же постоянные эпитеты существуют и в гомеровском эпосе, в особенности при именах эпических героев: «быстроногий Ахилл», «хитроумный Одиссей» и т. д. Постоянные эпитеты как признак традиционного стиля, встречаются в фольклорной поэзии большинства народов. Рядом с русскими примерами типа «дружинушка хоробрая» или «стремячко шелковое» можно поставить эпитеты из английской народной баллады: true love - верная возлюбленная; green wood - зеленый лес; milk-white steed - молочно-белый конь; yellow hair - желтые, т. е. золотые волосы; white hand - белая рука.
Постоянство употребления эпитета в народной поэзии, в фольклоре настолько велико, что эпитет как типический признак может вступить в противоречие с конкретной ситуацией. В южнославянском эпосе всегда говорится «рученьки белые», и поэтому черный арап может поднять к небу свои «белые руки». Или, скажем, герой древнегреческого эпоса поднимает свои руки к «звездному небу», даже если действие происходит днем, потому что небо всегда «звездное».
Эти примеры противоречия постоянных эпитетов с конкретной ситуацией показывают самое существенное в эпитете: то, что эпитет мыслится как типичный признак данного предмета. Когда мы говорим «удалый добрый молодец» или «дружинушка хоробрая», или «синее море», «шелковый повод», мы не берем «дружинушку хоробрую» в противоположность трусливой дружине или «удалый добрый молодец» в противоположность молодцу неудалому, или «синее море» в противоположность «зеленому» или «черному». Мы мыслим «синее» как типический признак моря, «хоробрая» как типический признак дружины, «шелковый» как типический признак повода или стремени.
В разговоре мы можем сказать «белая бумага» или «зеленая бумага», «красный шкаф» или «черный шкаф». Эти определения ограничивают понятие предмета: красный шкаф в противоположность черным шкафам; белая бумага в противоположность зеленой бумаге. Но когда в народной поэзии употребляются постоянные эпитеты, они не сужают понятия, но употребляются в смысле типических признаков, которые, с точки зрения поэтического народного сознания, должны как норма присутствовать в данном предмете, т. е. удалым, добрым молодцем бывает всякий добрый молодец, хороброй является всякая дружина. Это связано с присущей эпосу поэтической идеализацией. Эпос героев и предметы, окружающие их, идеализирует. Коли молодец, так добрый молодец или удалый добрый молодец. Если стремячко, то непременно шелковое. Если столы, то непременно самые лучшие столы - белые, дубовые. Эпитет есть способ идеализации, характерный для эпоса. Об этих вопросах говорит очень хорошо и подробно А. Н. Веселовский в статье «Из истории эпитета».
Следовательно, постоянный или украшающий эпитет народной поэзии, в частности народного эпоса, выражает типический признак предмета, не сужая значения того слова, к которому он относится.
Так же употребляют определения и в поэзии французского классицизма XVII-XVIII веков. И здесь эпитет имеет значение не индивидуализированного определения, сужающего значение предмета, а украшающего эпитета, подчеркивающего типический признак данного предмета.
Скажем, английские поэты XVIII века говорят всегда «gentle breeze» - «нежный ветерок». Слово «breeze» («ветерок») всегда идет рука об руку со словом «gentle» («нежный»); они всегда употребляются вместе. Или «brown shades» («коричневые тени»). Тени в английской поэзии XVIII века всегда коричневые, месяц всегда бледный - «pale moon», и т. п.
Мы знаем такие эпитеты и в русской поэзии XVIII века: «трудолюбивая пчела», «бледная Диана», «серебристый ручей», «белый парус». Понятно, что в поэзии XVII-XVIII веков такого рода постоянные, украшающие эпитеты могли существовать не потому, что, как в народной поэзии, они традиционны, а потому, что поэзия XVII-XVIII веков связана с эстетическим рационализмом, с типизацией, с обобщением. Она имеет дело не с индивидуальными качествами, а с типическими качествами предмета, потому что она типизирует, обобщает.
Когда романтическая поэзия в начале XIX века стала стремиться к большей индивидуализации в описании, к более характерным словам, она повела борьбу против «постоянного эпитета» классического стиля. Она выставила требование индивидуального эпитета, характеризующего эпитета. Парус бывает не только «белый», но и «коричневый», море не «синее», а при соответствующем освещении «зеленое», и т. д.
После этой романтической революции стали употреблять слово «эпитет» в расширенном смысле, понимая под ним всякое художественное определение. Но, в сущности, правильнее сказать, что романтическая революция привела к снятию эпитета как особой поэтической фигуры, как особого поэтического приема, потому что когда мы говорим о каком-нибудь предмете, скажем, о снеге, не «белый» снег, а «коричневый» снег, то в этом нет никакого особого словоупотребления, специфического для языка поэзии. Мы называем снег коричневым так же, как в прозе скажем о коричневом предмете. Но, говоря «белый снег» так, как это говорится в народной поэзии, мы употребляем прилагательное как эпитет, т. е. мы употребляем прилагательное в каком-то особом смысле, не свойственном обычному прозаическому употреблению. Мы его употребляем как типический, постоянный признак предмета.
Следующий вопрос, на котором мы остановимся, - это порядок слов в предложении: каким образом порядок слов в пред ложении может быть использован для целей художественного воздействия.
Здесь, как и во всех вопросах, связанных с языком, надо исходить из особенностей языка. Есть языки, в которых порядок слов является строгим, связанным, и есть языки, в которых порядок слов является более свободным. В европейских языках это зависит от степени развития анализа, или так называемого аналитического строя.
Если язык принадлежит к флективному типу, если он сохранил богатые падежные окончания, то он не нуждается в порядке слов для выражения синтаксических отношений; порядок слов в этом языке является в гораздо большей степени свободным.
Напротив, в языках аналитического типа (французский, английский) порядок слов является в значительной степени связанным, потому что именно порядок слов позволяет нам отличить винительный падеж от именительного, подлежащее от дополнения, поскольку признаков флексии в этих языках либо совсем нет, либо они имеются в малой степени. По-французски можно сказать только: «J’aime mon frere» («я люблю своего брата»), тогда как по-русски возможна гораздо большая свобода и в расстановке слов. Именно на фоне связанного порядка слов особенно ярко выступает то, что получило в стилистике название «инверсия». Инверсия - перестановка слов, отклоняющаяся от нормальной расстановки слов, которые грамматика требует для прозаической речи. Инверсия выделяет слова с помощью их положения, например, ставит на первое место такое слово, которое требует большей степени внимания.
В стихах молодого Гете, ярко-эмоциональных, экспрессивных, относящихся к периоду «бури и натиска», можно часто встретить нарушение логического, грамматического расположения слов:
Dich sah"ich, und die Freude
Floss aus dem lieben Blick auf mich...
(Тебя я увидел, и радость на меня исходила из твоего нежного взора).
Объект в винительном падеже открывает собой предложение. И дальше:
Ganz war mein Herz auf deiner Seite
Und jeder Atemzug fur dich...
(Всецело сердце мое было с тобой). Слово «всецело» выделяется благодаря тому, что поставлено не на обычном месте, а в начале предложения.
Нельзя сказать, что в русском языке порядок слов не важен. Порядок слов в поэзии никогда не безразличен, и в ряде слу чаев мы не ощущаем, что слова идут не в том, порядке, какой был бы обычен в прозаическом языке.
Например, у Пушкина:
Богат и славен Кочубей...
Тиха украинская ночь...
Здесь определяющие, предикативные, сказуемостные слова выдвинуты вперед, так как это более выразительно, чем если бы было сказано:
Кочубей богат и славен...
Украинская ночь тиха...
Теперь о типах предложения, об использовании в поэтическом синтаксисе разных типов предложения. Прежде всего несколько слов о предложениях не совсем обычного типа. Обычный тип предложения в наших языках: подлежащее, сказуемое, если нужно - дополнение и т. д. Но есть предложения особого типа - как бы недоразвитые, архаические. Например, возможны предложения, в которых нет глагола, - безглагольные предложения.
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Так начинается одно из стихотворений А. Блока.
А вот пример стихотворения, которое целиком написано без глаголов, известное стихотворение Фета, которое вызвало в свое время большую полемику именно своим необычным построением:
Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..
Все стихотворение построено на безглагольных предложениях, хотя тут не только приводится описание ночи, но и в художественной форме дан рассказ о ночном свидании.
Какую художественную цель может преследовать такой способ выражаться в поэзии без глаголов? От такого стихотворения мы получаем впечатление, как если бы это был ряд кра сочных пятен, не связанных между собою. Это то же, что на импрессионистской картине, где зрительные ощущения переданы не связанными красочными пятнами. В этом смысле Фет открывает линию импрессионистской лирики. Бальмонт перенял от Фета эту манеру:
Шелест листьев. Шепот трав.
Переплеск речной волны.
Ропот ветра, гул дубрав,
Ровный, бледный блеск луны.
Или:
Ландыши, лютики. Ласки любовные.
Ласточки лепет. Лобзанье лучей.
Лес зеленеющий. Луг расцветающий.
Светлый свободный журчащий ручей.
Здесь только существительные с соответствующими качественными определениями, как ряд пятен, набрасываемых без связи или со связью чисто эмоциональной, лирической, передающей впечатления поэта от окружающего его мира.
В найдем языке существуют и другие предложения особого типа - безличные предложения, бессубъектные предложения, в которых нет четко обозначенного подлежащего, или, во всяком случае, подлежащее неопределенное.
Употребление безличных или неопределенно-личных предложений может быть особенностью поэтического стиля. Можно воспользоваться этими формами языка для того, чтобы передать впечатление от действий, носитель которых неясен.
Происходит нечто таинственное, неопределенное, загадочное. «И представьте вы себе, господа: только что я задул свечу, завозилось у меня под кроватью. Думаю: крыса? Нет, не крыса; скребет, возится, чешется. Наконец - ушами захлопало!».
В балладе Шиллера «Кубок» (переведенной на русский язык Жуковским) описывается, как юноша бросается вслед за кубком в пучину и исчезает в ней. Потом он выплывает, держа в руке кубок. Стихотворение построено очень драматично. Там не рассказывается, что делается с юношей, когда он исчезает, а изображается король, его свита, дамы; они, взволнованные, смотрят в пучину и видят, как бушует пучина и как вдруг из пучины что-то поднимается вверх, что-то забелело, показывается рука, потом человек, и вот он выходит. По-немецки этот момент, когда что-то вдруг забелело, передается через безличное или неопределенно-личное предложение:
Und sieh! aus dem finster flutenden Scho ß ,
Da hebet sich’s schwanenwei ß ,
Und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß,
Und es rudert mit Kraft und mit emsigen Fleiß,
Und er ist’s...
(Смотри, из волнующейся пучины что-то поднимается лебединобелого цвета... Рука видна... Плечо... и кто-то плывет... И наконец - это он!..)
Поэт вначале употребляет безличную или неопределенноличную форму, а когда уже видно, кто плывет, он переходит на личную форму.
Приведу еще пример, известное стихотворение французского поэта-символиста Верлена, которое начинается так:
II pleure dans:mon coeur Comme il pleut sur la ville.
Quelle est cette langueur Qui penetre mon coeur? ..
(Плачет в моем сердце, как дождит над городом. Что это за томление, которым проникнуто мое сердце?..). По-русски мы сказали бы: «Что-то плачет в моем сердце, как дождь идет над городом».
Особую роль в эмоциональном поэтическом стиле играют вопросительные и восклицательные предложения. Предложения эти имеют разную степень эмоциональной окраски, и это может играть существенную роль в эмоциональном стиле поэта.
Начнем с обращения, как наиболее заметно отклоняющегося от прозаической речи. Обращения могут иметь разный характер. Иногда поэт в торжественной оде апострофирует, обращается к отвлеченным понятиям. Примеры из Державина:
Доколь владычество и славу,
Коварство! будешь присвоять? ..
Услышь, услышь меня, о Счастье!..
Может быть также обращение к определенному лицу, нередко отсутствующему, к воображаемому собеседнику:
Подай, Фелида, наставленье!..
Бессмертен ты, великий Петр!..
Восстань, Палеолог, поверженный Луной!..
Это риторические обращения, они не предполагают разговора поэта с реальным лицом; это разговор на большом расстоянии, громким голосом, с призыванием того лица, к которому обращено риторическое высказывание поэта.
Другого рода обращения мы можем встретить в лирических поэмах Байрона, Пушкина,. Лермонтова как выражение эмоционального участия поэта в судьбе своих героев:
Ты их узнала, дева гор,
Восторги сердца, жизни сладость;
Твой огненный невинный взор
Высказывал любовь и радость.
Когда твой друг во тьме ночной
Тебя лобзал немым лобзаньем,
Сгорая негой и желаньем,
Ты забывала мир земной,
Ты говорила... (IV, 93)
Так обращается Пушкин к черкешенке. Он не просто рассказывает о ее любовных переживаниях как об объективном факте. Беседуя с ней, лирически к ней обращаясь, он показывает участие в ее судьбе.
Или Пушкин описывает восточную красавицу Зарему в «Бахчисарайском фонтане»:
Он изменил!,. Но кто с тобою,
Грузинка, равен красотою?
Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи... (IV, 135)
Это не просто описание красоты; оно дано в форме обращения и приобретает благодаря этому лирический характер.
Теперь о восклицаниях. Восклицания в поэзии тоже бывают двоякого рода. Бывают восклицания риторического характера, в которых мы прежде всего имеем дело с усилением, эмфазой (эмфаза - подчеркивание, усиление), и бывают восклицания эмоционально-лирического характера. Начнем с риторических восклицаний.
Пример такого рода риторических восклицаний можно найти в поэмах Байрона или Лермонтова. Например:
Лик - прежде нежный - был страшней
Всего, что страшно для людей!
(Лермонтов. «Ангел смерти»)
Лермонтов ставит здесь восклицательный знак. Этот знак означает, что здесь сообщается нечто необычайное, из ряда вон выходящее, гиперболическое. Это эмфатическое выражение, это подчеркивание напряженности, необычайности выражается интонацией, на которую указывает восклицательный знак.
То ангел смерти, смертью тленной
От уз земных освобожденный! ..
В юношеском стихотворении Байрона рассказывается о том, как ему изменила единственная возлюбленная:
And fiends might pity what I feel,-
To know that thou art lost for ever.
(И даже демоны могут сострадать мне, когда видят, что я переживаю, зная, что ты потеряна для меня навсегда).
Но восклицание не обязательно носит риторический характер, характер эмфазы. Вот примеры лирических восклицаний, которые обычны во взволнованных, эмоциональных лирических стихотворениях.
Сравним у Тютчева:
Как хорошо ты, о море ночное, -
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
Как сладко дремлет сад темно-зеленый,
Объятый негой ночи голубой,
Сквозь яблони, цветами убеленной,
Как сладко светит месяц золотой!..
Или у Фета:
Как нежишь ты, серебряная ночь,
В душе расцвет немой и тайной силы!
О, окрыли - и дай мне превозмочь
Весь этот тлен бездушный и унылый!..
Что за ночь! Прозрачный воздух скован;
Над землей клубится аромат.
О, теперь я счастлив, я взволнован,
О, теперь я высказаться рад!
Сравним еще стихотворение Фета, насквозь состоящее из лирических восклицаний:
Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнет нигде волна,
Как тишиною грудь полна!..
Это все можно рассказать просто как описание ночи, но благодаря тому, что описание дается в форме лирических восклицаний, оно приобретает отчетливо эмоциональный характер. То же самое относится к лирическим поэмам Пушкина, Лер монтова и, конечно, Байрона (который в этом смысле был их учителем).
Сравним лирическое описание:
Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей Пророка!.. (IV, 138)
О боже! Если бы Гирей
В ее темнице отдаленной
Забыл несчастную навек,
Или кончиной ускоренной
Унылы дни ее пресек!
С какою радостью Мария
Оставила печальный свет!
Мгновенья жизни дорогие
Давно прошли, давно их нет! (IV, 142)
Здесь душевное состояние Марии передается рядом восклицаний, которые придают рассказу поэмы не объективный характер, а лирическую окраску.
Мы уже говорили, как восклицание вместе с рядом других приемов содействует эмоциональной окраске рассказа в лирической поэме Байрона, Пушкина, Лермонтова. Но то же относится к лирической прозе. Напомним лирические места в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное... Как полно сладострастия и неги малороссийское лето!».
Или лирический отрывок в «Мертвых душах»: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как чудна она сама, эта дорога! .. А ночь! небесные силы! какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!..».
Наличие таких восклицаний в описаниях является особенностью романтического стиля и придает лирический характер этим отрывкам художественной прозы.
Вопрос тоже может носить риторический характер. Такие риторические вопросы вместе с обращениями обычны в стиле торжественной оды. Вспомним патриотическое стихотворение Пушкина «Клеветникам России»:
О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России? .. (III, 209)
Вопросы такого рода давно получили в стилистике название риторических вопросов, причем обычно говорят, что риториче ский вопрос - это такой вопрос, который не требует ответа. Вопрос задается не для того, чтобы получить ответ, он является поэтическим приемом. В форме вопроса рассказывается о том, что «народные витии» нападают на Россию за подавление польского восстания. Конечно, такое сообщение в форме вопроса не требует никакого ответа.
Не медь ли в чреве Этны ржет
И, с серою кипя, клокочет?
Не ад ли тяжки узы рвет
И челюсти разинуть хочет? ..
Но и вопрос в стихотворении не обязательно носит риторический характер. Это может быть эмоциональный, лирический вопрос. Когда дается какое-нибудь лирическое описание в стихах, скажем, описание прекрасной ночи и связанных с нею переживаний, то обычно на вершине стихотворения появляется вопросительная интонация, как прорыв чувства, как способ эмоционально поднять стихотворение. Приведем очень типичное в этом смысле стихотворение Фета:
Выйдем с тобой побродить
В лунном сиянии!
Долго ли душу томить
В темном молчании!
Пруд, как блестящая сталь,
Травы в рыдании,
Мельница, речка и даль
В лунном сиянии.
Можно ль тужить и не жить
Нам в обаянии?
Выйдем тихонько бродить
В лунном сиянии!
Лирический вопрос: «Можно ль тужить и не жить нам в обаянии?» эмоционально поднимает отрывок, звучит как взволнованный голос поэта.
Иногда стихотворение целиком строится на лирических вопросах. Жуковский умел писать такие лирические стихи, вся эмоциональность которых заключается в вопросах, придающих своего рода таинственность тому, что, по существу, никакой тайны не представляет.
Легкий, легкий ветерок,
Что так. сладко, тихо веешь?
Что играешь, что светлеешь,
Очарованный поток?
Чем опять душа полна?
Что опять в ней пробудилось?
Нечто таинственное возникает в душе, о чем не сказано. Это имеет свою широко распространенную традицию и в западноевропейской поэзии. Гете, описывая зарождение любви в душе, одно из ранних стихотворений начинает так:
Herz, mein Herz, was soli das geben?
Was bedranget dich so sehr?
Welch ein fremdes, neues Leben!
Ich erkenne dich nicht mehr.
(Сердце, мое сердце, что бы это означало? Что тебя так гнетет? Какая чуждая, новая жизнь! Я больше тебя не узнаю).
Что-то в душе появилось непонятное, и поэт обращается к сердцу с таким риторическим вопросом. Многие стихотворения Гейне также могут служить примером такого использования вопроса.
Warum sind denn die Rosen so bl а ß ,
О sprich, mein Lieb, warum?
Warum sind denn im griinen Gras
Die blauen Veilchen so stumm?
(Почему розы так бледны, о скажи, моя любовь, почему? Почему в зеленой траве голубые фиалки так немы?).
Опять-таки, если мы обратимся к лирическим поэмам Пушкина, Лермонтова, Байрона, то рядом с обращением, с восклицанием здесь большую роль играют вопросы как способ выражения заинтересованности рассказчика в том, о чем он говорит, словно сам рассказчик спрашивает, интересуется, хотел бы знать.
Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?
Чей это конь неутомимый
Бежит в степи необозримой? (IV, 189)
Это не просто рассказ о скачке, а рассказ, представляющий и загадку, и таинственность, и интерес для рассказчика.
... Но кто с тобою,
Грузинка, равен красотою? (IV, 135)
Такого рода вопросы в рассказе являются особенностью не только лирического стиля. В народном эпическом повествовании нередко встречается вопрос, может быть, возникший как способ заинтересовать слушателя. Приведу начало сербской эпической сказки в прозаическом переводе: «Что там белеет на горе? Снег ли это или белые лебеди? Если б это был снег, он бы растаял. Если б лебеди, они бы улетели. Нет, то не снег и не лебеди, это палатки Асан-Аги». (Асан-Ага лежит тяжело больной и ждет, что его придет проведать его молодая жена.)
В немецкой, в английской балладе мы постоянно встретим такого рода вопросы.
Es reit der Herr von Falkenstein
Wohl fiber ein breite Heide.
Was sieht er an dem Wege stehn?
Ein Madel mit weiSem Kleide.
(Едет граф Фалькенштейн через широкое поле. Кого он видит посреди дороги? Девушку в белом платье).
Рассказчик, народный певец, как бы на минуту останавливается, заинтересовывает слушателя вопросом, и затем дает ответ на этот вопрос.
Лирические вопросы вместе с лирическими восклицаниями окрашивают особую романтическую прозу.
«Чего ждала эта теплая, эта не заснувшая ночь? Звука ждала она...» (Тургенев).
«Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? («Мертвые души»).
Вопрос о связи предложений между собой тоже может иметь существенное значение для построения поэтического произведения. Предложения могут быть соединены между собой разным образом. Из грамматики известно, что предложения могут сочетаться с помощью сочинения (сочиненные предложения) и с помощью разных форм подчинения (подчиненные предложения). Сочинение или подчинение может играть известную роль в художественном стиле стихотворения. Простейшее повествование строится обыкновенно на элементарных формах сочинения. Такое элементарное повествование мы находим в библейском рассказе Ветхого Завета: «И сказал Бог: да будет свет! И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. . . И был вечер, и было утро: день один» (Бытие, 1,1-4).
В Ветхом Завете, который является переводом с древнееврейского, повествование строится с помощью простого присоединения одного предложения к другому через «и».
Возьмем пример из русской сказки, где рассказ ведется совершенно аналогичным образом, с помощью простого присоеди нения одного элемента к другому. «Подъезжают они к городу. Привалили они к пристани. И вот этот купец пошел в город. И вот он откупил у одново купца свободный магазин, и стал он в этом магазине торговать с сыном. Я пошла у них торговля хорошо. Я так што прожили в этом городе с год времени...» (Точная запись сказочника в «Сказках и песнях Белозерского края бр. Соколовых»).
Сказочник нанизывает одно предложение на другое, объединяя их словом «и» или «и вот».
Не нужно думать, однако, что такое «и», присоединяющее одно предложение к другому, непременно придает рассказу наивный эпический характер. Все зависит, как всегда в стилистике, от контекста, от общего смысла целого.
В лирическом стихотворении, в котором дана такая цепочка предложений, объединенных с помощью «и», «и» может способствовать лирическому нагнетанию, усилению эмоционального впечатления. Это мы видим в «Незнакомке» А. Блока:
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль...
Соединение последовательных элементов союзом «и» придает этому лирическому рассказу большее эмоциональное усиление, нагнетание. Этому будет противоположен стиль поэта, который пользуется противительными союзами. Если поэт говорит «но» или «а» (более мягкое противопоставление), то он тем самым дает логическое противопоставление: одно противопоставлено другому по логическому ходу мысли.
В стихотворении «Для берегов отчизны дальной...» все построено на противопоставлении одной строфы другой, последующей строфе с помощью логического, противительного «но»:
Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала...
Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом...
И последнее:
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой... (III, 193)
Здесь четкое членение внутреннего движения мысли, рассказ, построенный на противопоставлении последующего звена предыдущему.
Охотно пользуется такими противопоставлениями в своих стихах Анна Ахматова:
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.
А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»
Или:
Ах, пусты дорожные котомки,
А назавтра голод и ненастье...
С союзом «но»:
Ты дышишь солнцем, я дышу луною
Но живы мы любовию одною..
Стихотворение глубоко лирическое, но момент противопоставления выступает здесь как логически четкий момент.
Конечно, сложные формы подчинения, в особенности подчинения логического, необычны в поэзии. Я понимаю под логическими формами подчинения предложения причинные, целевые, следственные, условные, уступительные. Это все предложения, выражающие логические отношения между мыслями, и в развитии языка такие типы предложений являются относительно поздними. Они вырабатываются прежде всего в языке прозаическом, можно даже сказать, в языке канцелярском, юридическом. Можно проследить, как это происходит во французском или немецком языках в XIV-XV веках или в русском языке в Петровскую эпоху. Конечно, этот тип логической связи необычен в стихах. Но встречаются и лирические стихотворения, вроде знаменитого стихотворения Байрона «На прощание с женой» (когда он покидает Англию), которое звучит как своеобразное риторическое судоговорение. Поэт обвиняет кого-то, оправдывает себя, и это дается в форме логической связи между отдельными высказываниями:
Fare thee well, and if for ever
Still for ever fare thee well.
(Прощай! И если наша разлука будет навсегда, все же хоть и навсегда прощай! ..).
В этом смысле очень характерны разговорные прозаизмы в стихах Ахматовой:
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу...
Если ты со мной еще побудешь...
Затем, что воздух был совсем не наш,
А как подарок божий был чудесен...
Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В стихах Ахматовой часто встречаются «чтоб», «если» и т. д.
Но не надо подходить к этим вещам формалистически, не надо обманываться внешней формой высказывания. Приведу в качестве примера одно из лучших стихотворений Ахматовой:
Солнце комнату наполнило
Пылью желтой и сквозной,
Я проснулась и припомнила:
Милый, нынче праздник твой.
Оттого и оснеженная
Даль за окнами светла,
Оттого и я бессонная
Как причастница спала.
Формально «оттого» говорит о логической связи. Но это логика эмоциональная (как говорили в старину-«женская логика»). Несомненно, что солнечный день не оттого, что сегодня чьи-то именины. Это внешняя форма выражения, за которой стоит, по существу, иррациональная связь, связь, подсказанная чувством любви. Следовательно, это не реальная логическая связь, как мы имели бы ее в прозе.
Остановлюсь еще на одном вопросе, который хотя и относится к области синтаксиса, но частично за область синтаксиса выходит, - на вопросе о роли повторений в художественном языке.
Повторения встречаются и в обычной речи: высокий-высокий; длинный-длинный; бежит-бежит - в смысле: очень высо кий, очень длинный, долго бежит. В эмоциональной речи повторения особенно часты: «Разве я не говорил тебе? Разве я не предупреждал?»
Повторения могут быть рассматриваемы с разных точек зрения. Синтаксическая точка зрения - только одна сторона вопроса. Прежде всего в повторении мы имеем повторение смысла: смысл слова или группы слов два раза или несколько раз повторяется, и тем самым происходит эмоциональное усиление.
С повторением смысла, поскольку повторяется то же самое слово, связан и звуковой повтор. Значит, повторение имеет свою звуковую сторону. В стихах, а иногда и в ритмической прозе с такого рода звуковым повторением может быть связан ритмический параллелизм, т. е. какие-то повторяющиеся звуковые элементы повторяются и как ритмические ряды. И не только ритмический параллелизм, но и синтаксический, т. е. одинаковое расположение синтаксических элементов: подлежащее и сказуемое, подлежащее и сказуемое; или существительное и прилагательное (определение), существительное и прилагательное.
В час незабвенный, в час печальный...
(Пушкин)
Мы имеем здесь ритмический и синтаксический параллелизм полустиший. В данном случае мы говорим о ритмико-синтаксическом параллелизме полустиший.
Таким образом, повторение представляет собой сложный комплекс явлений, и синтаксическая сторона - только одна из сторон повторения.
С чисто описательной - морфологической, формальной точки зрения можно выделить несколько разных типов повторений. В старых стилистиках именно эта описательная, формальная сторона более всего изучена. Не останавливаясь на этом подробно, приведу несколько примеров. Может быть простое повторение слов, которое обычно служит усилению. «Приди, ко мне, сюда, сюда!»; «Я иду, иду одна»; «Я пойду за ним, за ним». «Милый, милый, вновь мы рядом» (Брюсов).
Повторение может быть не прямое, а на некотором расстоянии, так сказать, подхватывание слова.
Заплечные входят опять мастера,
Опять началася работа...
(А. К. Толстой)
Набегает сумрак вновь,
Сумрак с отсветом багряным,
Это ль пламя, это ль кровь.
Кровь, текущая по ранам?
(В. Брюсов)
При повторении или подхватывании слово может меняться, стоять в другом падеже. Другое слово, образованное от того же корня, в старой стилистике называлось «анноминация».
Брюсов:
К ногам белее белых лилий...
Я - раб и был рабом покорным...
Лермонтов:
Чернея на черной скале...
Наиболее существенное значение имеет расположение повторения в ритмическом делом, место повторения в стихе. Можно указать на четыре способа расположения повторяющихся слов. Повторяющиеся слова в начале рядов носят название «анафора». Это наиболее обычный тип повторения в стихах и ритмической прозе.
Клянусь я первым днем творенья.
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством...
(Лермонтов. «Демон»)
Могут повторяться последние слова двух отрывков. В старой стилистике это носит название «эпифора» (по-русски «концовка»).
Более редкие случаи, когда повторение стоит в конце одного и в начале следующего стиха. Сравните у Бальмонта:
Я мечтою ловил уходящие тени.
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня...
В греческой стилистике это имело свое название, но по-русски называется стыком.
Наконец, возможно повторение, при котором повторяющийся элемент стоит в начале одной группы и в конце другой. Тогда мы получаем то, что по-русски называется «кольцо». Например, стихотворение Сологуба:
Звезда Маир сияет надо мною,
Звезда Маир...
Выше говорилось, что повторения очень часто бывают связаны с синтаксическим параллелизмом («В час незабвенный, в час печальный...»). Но ритмико-синтаксический параллелизм может возникнуть и без повторения. Ср. в полустишиях:
Отступник света, друг природы...
Это могут быть также параллельно построенные стихи:
Я загораюсь и горю,
Я порываюсь и парю...
Здесь также рифмующаяся перекличка параллельных стихов.
При таком ритмико-синтаксическом параллелизме может существовать и обратный порядок повторяющихся элементов.
В косматой шапке, в бурке черной...
(Пушкин. «Кавказский пленник»)
«В косматой шапке» - определение - определяемое; «в бурке черной» - определяемое - определение. В старой стилистике это называлось «хиазм» (от греческой буквы-«хи»).
В лирических стихотворениях повторения встречаются очень часто, они являются здесь элементом эмоционального музыкального воздействия. Чем больше в стихах эмоционального напряжения, тем чаще встречаются в них повторения. Конечно, это в значительной степени зависит от стиля поэта. Пушкин, например, не злоупотреблял повторениями, потому что эмоциональность его стихотворений держится по преимуществу на эмоциональности смысла, смысловой значимости стихотворения. А у Лермонтова и Фета такого рода повторения встречаются часто, так как это поэты эмоционально-лирического стиля.
Повторения играют очень большую роль в лирических поэмах. Эмоциональная окраска лирического повествования у Пушкина, Лермонтова, в лирических поэмах Байрона в значительной степени связана с сочетанием повторений, с восклицаниями, вопросами. Это то, что дает впечатление эмоционального участия поэта в рассказе.
В Россию дальний путь ведет,
В страну, где пламенную младость
Он гордо начал без забот;
Где первую познал он радость,
Где много милого любил,
Где обнял грозное страданье,
Где бурной жизнью погубил
Надежду, радость и желанье... (IV,84)
Так в «Кавказском пленнике» дается воспоминание о прошлом героя. Здесь не просто рассказывается биография кавказского пленника; ее лиричность подчеркивается повторяющимся «где».
Недавно юная Мария Узрела небеса чужие;
Недавно милою красой
Она цвела в стране родной... (IV, 135)
(рассказ о Марии Потоцкой в «Бахчисарайском фонтане»).
То же относится к лирической прозе в романтическом стиле у Тургенева и Гоголя.
«Не оглядывайся назад, не вспоминай, не стремись туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цветами весны, где голубка радость бьет лазурными крыльями, где любовь, как роса на заре, сеет слезами восторга- не смотри туда, где „блаженствует" вера и сила- там не наше место!» (Тургенев).
При этом не требуется наличие значительной группы повторяющихся слов; достаточно, как в данном случае, одного повторяющегося слова «где». Синтаксический параллелизм придаточных предложений, который вводится одинаковым союзом, производит на нас впечатление ритмизированной речи, поскольку мы соотносим эти параллельные придаточные предложения или части одного целого.
В этой связи мне хотелось бы охарактеризовать композиционную роль повторения.
Повторение вообще, синтаксическое повторение в особенности может играть существенную роль в композиции лирического стихотворения. Оно образует период, построенный по принципу повторения параллельных синтаксических элементов. Классическим примером является стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива»...». Как построено стихотворение в целом? Оно состоит из четырех строф. Три строфы, начинающиеся словом «когда», представляют собой три придаточных предложения, образующих как бы лестницу восхождения. Затем идет четвертая строфа, начинающаяся словом «тогда», главное предложение, которое образует нисходящую часть, является заключением стихотворения. Вся композиция представляет собой три развернутых придаточных предложения с заключительным главным предложением.
Напомню известное стихотворение Фета, тоже построенное по принципу развернутых придаточных предложений, тоже занимающее четыре строфы, но здесь еще и с повторением слова:
Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;
Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;
Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь, - но только песня зреет.
«Рассказать, что...» определяет содержание каждой строфы, а в пределах строфы второй период тоже начинается со слова «что». Это дает известное усиление, нагнетание, лирический характер и движение всему стихотворению. Не обязательно, чтобы строфы стихотворения, связанные повторением и параллелизмом, непременно образовали придаточные предложения, входящие в состав развернутого сложного предложения. Такие случаи гораздо более редки, чем простое повторение расположенных на параллельных местах синтаксических, независимых друг от друга стихов. Примером такого повторения может служить стихотворение Вл. Соловьева, построенное на приеме анафоры, одинакового начала первых трех стихов в каждой строфе:
Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь.
Что житейский шум трескучий
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете -
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?
Благодаря такому многократному и многообразному повторению стихотворение приобретает песенный, музыкальный стиль.
Теперь вопрос о композиционном использовании концовки, об одинаковом окончании строф. Процитирую Фета:
Мы встретились вновь после долгой разлуки,
Очнувшись от тяжкой зимы;
Мы жали друг другу холодные руки
И плакали, плакали мы.
Но в крепких, незримых оковах сумели
Держать нас людские умы;
Как часто в глаза мы друг другу глядели,
И плакали, плакали мы!
Но вот засветилось над черною тучей
И глянуло солнце из тьмы;
Весна, - мы сидели под ивой плакучей,
И плакали, плакали мы.
«И плакали, плакали мы» образует концовку, которая композиционно объединяет единым лейтмотивом все стихотворение. Это близко к тому, что мы называем припевом. Припев в народной поэзии - это концовка более или менее самостоятельная в композиционном, метрическом отношении. Вспомним стихотворение Гете, написанное в духе народной песни, - «Heidenroslein»:
Roslein, Roslein, Roslein rot,
Roslein auf der Heiden!..
В русском переводе:
Роза, роза, алый цвет!
Роза в чистом поле!..
Припев ритмически выделен, и в традиции народной песни это связано с хоровым исполнением песни. Припев повторяется хором, а потом он становится особым композиционным приемом.
Последний композиционный прием - это кольцо. Мы очень часто встречаем лирические стихотворения, замкнутые в кольцо повторяющихся строф.
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.
Увы, напоминают мне
Твои жестокие напевы
И втепь, и ночь, и при луне
Черты далекой, бедной девы!..
Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю:
Но ты поешь - и предо мной
Его я вновь воображаю.
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный. (III, 64)
В конце возвращаются те же слова, что и в начале, замыкая стихотворение, как это часто бывает в романсах, но повторяющаяся строфа при своем возвращении получает уже новый смысл. Первая строфа - это тезис. Потом этот тезис развивается, и когда в конце появляется опять первая строфа, то она звучит примерно так, как если бы мы сказали: «Вот почему не пой, красавица, при мне...» (т. е. в результате всего того, что сказано). Кольцевое построение обычно в лирике, в особенности - лирике песенного, музыкального стиля.
 Откуда берутся вода и кислород на МКС?
Откуда берутся вода и кислород на МКС? Оборона Берлина: Французы-эсэсовцы и голландские военные
Оборона Берлина: Французы-эсэсовцы и голландские военные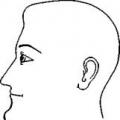 Раздвоенный подбородок у мужчин что значит
Раздвоенный подбородок у мужчин что значит