На пути из африки в южную америку. Найдено новое подтверждение раннего выхода сапиенсов из Африки «южным путем
осле открытия испанскими экспедициями Колумба «Западной Индии» португальцам нужно было спешить, чтобы закрепить за собой «права» на Восточную Индию. В 1497 г. была снаряжена эскадра для разведки морского пути из Португалии - вокруг Африки - в Индию. Подозрительные португальские короли остерегались прославленных мореплавателей. Поэтому начальником новой экспедиции стал не Бартоломеу Диаш , а молодой, ничем ранее себя не проявивший придворный знатного происхождения Васко (Башку) да Гама , на которого, по невыясненным причинам, пал выбор короля Мануэла I . В распоряжение Гамы он предоставил три судна: два тяжелых корабля, 100–120 т (т. е. 200–240 метрических т) каждое,- «Сан-Габриэл», на котором Васко поднял адмиральский флаг (капитан Гонсалу Алвариш , опытный моряк), и «Сан-Рафаэл», капитаном которого был назначен по просьбе Васко его старший брат Паулу да Гама , также ничем себя ранее не проявивший, и легкое быстроходное судно «Берриу» в 50 т (капитан Николау Куэлью ). Кроме того, флотилию сопровождало транспортное судно с припасами. Главным штурманом шел выдающийся моряк Перу Аленкер , плававший раньше в той же должности с Б. Диашем. Экипаж всех судов достигал 140–170 человек, сюда входили 10–12 уголовных преступников: Гама выпросил их у короля, чтобы использовать для опасных поручений.
8 июля 1497 г. флотилия вышла из Лиссабона и прошла, вероятно, до Сьерра-Леоне. Оттуда Гама по совету бывалых мореходов, чтобы избежать противных ветров и течений у берегов Экваториальной и Южной Африки, двинулся на юго-запад, а за экватором повернул на юго-восток. Более точных данных о пути Гамы в Атлантике нет, а предположения, будто он подходил к берегу Бразилии, основаны на маршрутах позднейших мореплавателей, начиная с Кабрала. После почти четырех месяцев плавания 1 ноября португальцы усмотрели на востоке землю, а через три дня вошли в широкую бухту, которой дали имя Св. Елены (Сент-Хелина, 32° 40" ю. ш.), и открыли устье р. Сантьягу (теперь Грейт-Берг). Высадившись на берег, они увидели двух почти нагих низкорослых мужчин (бушменов) с кожей «цвета сухих листьев», выкуривавших из гнезд диких пчел. Одного удалось захватить. Гама приказал накормить и одеть его, дал ему несколько ниток бус и бубенцы и отпустил. На следующий день пришли десятка полтора бушменов, с которыми Гама поступил так же, через два дня - около полусотни. За безделушки они отдавали все, что было при них, но эти вещи не представляли никакой ценности в глазах португальцев. Когда же бушменам показывали золото, жемчуг и пряности, они не проявляли к ним никакого интереса и не видно было по их жестам, что у них имеются такие вещи. Эта «идиллия» закончилась стычкой по вине матроса, чем-то обидевшего бушменов. Три-четыре португальца были ранены камнями и стрелами. Гама же применил против «врагов» арбалеты. Неизвестно, сколько туземцев при этом было убито и ранено. Обогнув южную оконечность Африки, португальцы стали на якорь в той «Гавани пастухов», где Бартоломеу Диаш убил готтентота. На этот раз моряки вели себя мирно, открыли «немой торг» и за красные шапки и бубенцы получили от пастухов быка и браслеты из слоновой кости.
концу декабря 1497 г. к религиозному празднику рождества, португальские суда, шедшие на северо-восток, находились приблизительно у 31° ю. ш. против высокого берега, который Гама назвал Натал («Рождество»). 11 января 1498 г. флотилия остановилась в устье какой-то реки. Когда моряки высадились на берег, к ним подошла толпа людей, резко отличавшихся от тех, которых они встречали на побережье Африки. Моряк, живший раньше в стране Конго и говоривший на местном языке банту, обратился с речью к подошедшим, и те его поняли (все языки семьи банту сходны). Страна была густо населена земледельцами, обрабатывавшими железо и цветные металлы: моряки видели у них железные наконечники на стрелах и копьях, кинжалы, медные браслеты и другие украшения. Португальцев они встретили очень дружелюбно, и Гама назвал эту землю «страной добрых людей».
Продвигаясь на север, суда 25 января вошли в лиман у 18° ю. ш., куда впадало несколько рек. Жители и здесь хорошо приняли чужеземцев. На берегу появились два вождя, носившие шелковые головные уборы. Они навязывали морякам набивные ткани с узорами, а сопровождавший их африканец сообщил, что он - пришелец и видел уже корабли, похожие на португальские. Его рассказ и наличие товаров, несомненно азиатского происхождения, убедили Гаму в том, что он приближается к Индии. Он назвал лиман «рекой добрых предзнаменований» и поставил на берегу падран - каменный гербовый столб с надписями, который ставился с 80-х гг. XV в. португальцами на африканском побережье в важнейших пунктах. С запада в лиман впадает Кваква - северный рукав дельты Замбези. В связи с этим обычно не совсем правильно говорят, что Гама открыл устье Замбези, и переносят на низовье реки название, которое он дал лиману. Месяц португальцы стояли в устье Кваквы, ремонтируя суда. Они болели цингой, и смертность была велика. 24 февраля флотилия вышла из лимана. Держась подальше от берега, окаймленного цепью островков, и останавливаясь но ночам, чтобы не сесть на мель, она через пять дней достигла у 15° ю. ш. порта Мозамбик. Арабские одномачтовые суда (доу) ежегодно посещали порт и вывозили оттуда главным образом рабов, золото, слоновую кость и амбру. Через местного шейха (правителя) Гама нанял в Мозамбике двух лоцманов. Но арабские торговцы угадали в пришельцах опасных конкурентов, и дружелюбные отношения вскоре сменились враждебными. Воду, например, можно было забирать только после того, как «противника» рассеивали пушечными выстрелами, а когда часть жителей бежала, португальцы захватили несколько лодок с их имуществом и по распоряжению Гамы разделили его между собой как военную добычу.
|
Путь Васко да Гаммы, 1497-1499 гг. |
1 апреля флотилия ушла из Мозамбика на север. Не доверяя арабским лоцманам, Гама захватил у берега небольшое парусное судно и пытал старика, его хозяина, чтобы получить сведения, нужные для дальнейшего плавания. Через неделю флотилия подошла к портовому г. Момбаса (4° ю. ш.), где тогда правил могущественный шейх. Сам крупный работорговец, он, вероятно, почувствовал в португальцах соперников, но сначала хорошо принял чужеземцев. На следующий день, когда суда входили в гавань, арабы, бывшие на борту, в том числе оба лоцмана, спрыгнули в близко подошедшее доу и бежали. Ночью Гама приказал пытать двух пленников, захваченных у Мозамбика, чтобы выведать у них о «заговоре в Момбасе». Им связали руки и лили на голое тело кипящую смесь масла и дегтя. Несчастные, конечно, сознались в «заговоре», но, так как они, естественно, не могли сообщить никаких подробностей, пытка продолжалась. Один пленник со связанными руками вырвался из рук палачей, кинулся в воду и утонул. Выйдя из Момбасы, Гама задержал в море арабское доу, разграбил его и захватил 19 человек. 14 апреля он стал на якорь в гавани Малинди (3° ю. ш.).
Ахмед Ибн Маджид и путь через Аравийское море
Местный шейх дружелюбно встретил Гаму, так как сам враждовал с Момбасой. Он заключил с португальцами союз против общего врага и дал им надежного старика лоцмана Ахмеда Ибн Маджида , который должен был довести их до Юго-Западной Индии. С ним португальцы вышли 24 апреля из Малинди. Ибн Маджид взял курс на северо-восток и, пользуясь попутным муссоном, довел суда до Индии, берег которой показался 17 мая.
Увидев индийскую землю, Ибн Маджид отошел подальше от опасного берега и повернул на юг. Через три дня показался высокий мыс, вероятно гора Дели (у 12° с. ш.). Тогда лоцман подошел к адмиралу со словами: «Вот она страна, к которой вы стремились». К вечеру 20 мая 1498 г. португальские суда, продвинувшись к югу около 100 км, остановились на рейде против г. Каликут (ныне Кожикоде).
тром флотилию посетили чиновники саморина - местного правителя. Гама отправил с ними на берег преступника, знавшего немного арабский язык. По рассказу посланца, его отвели к двум арабам, заговорившим с ним по-итальянски и по-кастильски. Первый вопрос, который ему задали, был: «Какой дьявол принес тебя сюда?» Посланец ответил, что в Каликут пришли португальцы «искать христиан и пряности». Один из арабов проводил посланца обратно, поздравил Гаму с прибытием и закончил словами: «Благодарите бога, что он привел вас в такую богатую страну». Араб предложил Гаме свои услуги и действительно был ему очень полезен. Арабы, очень многочисленные в Каликуте (в их руках была почти вся внешняя торговля с Южной Индией), настроили саморина против португальцев; к тому же в Лиссабоне не догадались снабдить Гаму ценными подарками или золотом для подкупа местных властей. После того как Гама лично вручил саморину письма от короля, он и его свита были задержаны. Выпустили их только через день, когда португальцы выгрузили на берег часть своих товаров. Однако в дальнейшем саморин держался вполне нейтрально и не препятствовал торговле, но мусульмане не покупали португальских товаров, указывая на их низкое качество, а бедняки индийцы платили гораздо меньше, чем рассчитывали получить португальцы. Все же удалось купить или получить в обмен гвоздику, корицу и драгоценные камни - всего понемногу.
Так прошло более двух месяцев. 9 августа Гама послал саморину подарки (янтарь, кораллы и т. д.) и сообщил, что собирается уходить и просит отправить с ним представителя с подарками королю - с бахаром (более двух центнеров) корицы, бахаром гвоздики и образцами других пряностей. Саморин потребовал внести 600 шерафинов (около 1800 золотых рублей) таможенных сборов, а пока отдал приказ задержать товары на складе и запретил жителям перевозить оставшихся на берегу португальцев на суда. Однако индийские лодки, как и раньше, подходили к кораблям, любопытные горожане осматривали их, а Гама очень любезно принимал гостей. Однажды, узнав, что среди посетителей есть знатные лица, он арестовал несколько человек и известил саморина, что освободит их, когда на суда пришлют португальцев, оставшихся на берегу, и задержанные товары. Через неделю, после того как Гама пригрозил казнить заложников, португальцев доставили на корабли. Гама освободил часть арестованных, обещая отпустить остальных после возвращения всех товаров. Агенты саморина медлили, и 29 августа Гама оставил Каликут со знатными заложниками на борту.
уда медленно продвигались на север вдоль индийского берега из-за слабых переменных ветров. 20 сентября португальцы стали на якорь у о. Анджидив (14°45" с. ш.), где отремонтировали свои корабли. Во время ремонта к острову подходили пираты, но Гама обратил их в бегство пушечными выстрелами. Оставив Анджидив в начале октября, флотилия почти три месяца лавировала или стояла без движения, пока, наконец, не подул попутный ветер. В январе 1499 г. португальцы достигли Малинди. Шейх снабдил флотилию свежими припасами, по настойчивой просьбе Гамы послал подарок королю (бивень слона) и установил у себя падран. В районе Момбасы Гама сжег «Сан-Рафаэл»: сильно сократившаяся команда, в которой много людей болело, была не в состоянии управлять тремя кораблями. 1 февраля он дошел до Мозамбика. Понадобилось затем семь недель на переход до мыса Доброй Надежды и еще четыре - до о-вов Зеленого Мыса. Здесь «Сан-Габриэл» разлучился с «Берриу», который под командой Н. Куэлью 10 июля 1499 г. первым прибыл в Лиссабон.

Васка да Гамма
Паулу да Гама был смертельно болен. Васко, очень привязанный к нему (единственная человеческая черта его характера), хотел, чтобы брат умер на родной земле. Он перешел у о. Сантьягу с «Сан-Габриэла» на нанятую им быстроходную каравеллу и пошел к Азорским о-вам, где Паулу умер. Похоронив его, Васко к концу августа прибыл в Лиссабон. Из четырех его судов вернулось только два,Неизвестно, где и при каких условиях брошено или погибло транспортное судно, не выяснена и судьба его экипажа. из команды - менее половины (по одной версии - 55 человек) и среди них моряк Жуан да Лижбоа , принимавший участие в плавании, вероятно, в качестве штурмана. Позже он многократно водил португальские корабли в Индию и составил описание маршрута, включающее характеристику берегов Африки - не только крупных заливов и бухт, но устьев рек, мысов и даже отдельных заметных пунктов побережья. Этот труд по детальности превзойден лишь в середине XIX в. «Африканской лоцией» британского Адмиралтейства.
Экспедиция Гамы не была убыточной для короны, несмотря, на потерю двух судов: в Каликуте удалось приобрести пряности и драгоценности в обмен на казенные товары и личные вещи моряков, немалый доход принесли пиратские операции Гамы в Аравийском море. Но, конечно, не это вызвало ликование в Лиссабоне среди правящих кругов. Экспедиция выяснила, какие огромные выгоды может принести для них непосредственная морская торговля с Индией при надлежащей экономической, политической и военной организации дела. Открытие для европейцев морского пути в Индию было одним из величайших событий в истории мировой торговли. С этого момента и до прорытия Суэцкого канала (1869 г.) основная коммерция Европы со странами Индийского океана и с Китаем шла не через Средиземное море, а через Атлантический океан - мимо мыса Доброй Надежды. Португалия же, державшая в своих руках «ключ к восточному мореходству», стала в XVI в. сильнейшей морской державой, захватила монополию торговли с Южной и Восточной Азией и удерживала ее 90 лет - до разгрома «Непобедимой армады» (1588 г.).
Веб-дизайн © Андрей Ансимов, 2008 - 2014 год
В Индию.
8 июля 1497 г. флотилия пол командованием вышла из и прошла, вероятно, до . Оттуда Гама по совету бывалых мореходов, чтобы избежать противных ветров и течений у берегов Экваториальной и Южной Африки, двинулся на юго-запад, а за экватором повернул на юго-восток. Более точных данных о пути Гамы в Атлантике нет, а предположения, будто он подходил к берегу , основаны на маршрутах позднейших мореплавателей. После почти четырех месяцев плавания 1 ноября португальцы усмотрели на востоке землю, а через три дня вошли в широкую бухту, которой дали имя Святой Елены (Сент-Хелина), и открыли устье реки Сантьягу (теперь Грейт-Берг). Обогнув южную оконечность Африки, суда стали на якорь в «Гавани пастухов». Моряки вели себя мирно, открыли «немой торг» и за красные шапки и бубенцы получили от пастухов быка и браслеты из слоновой кости.
К концу декабря 1497 г. к религиозному празднику Рождества португальские суда, шедшие на северо-восток, находились приблизительно против высокого берега, названного Гамой Натал («Рождество»), 11 января 1498 г. флотилия остановилась в устье какой-то реки. Когда моряки высадились на берег, к ним подошла толпа людей, резко отличавшихся от тех, которых они встречали на побережье Африки. Моряк, живший раньше в стране и говоривший на местном языке банту, обратился с речью к подошедшим, и те его поняли (все языки семьи банту сходны). Страна была густо населена земледельцами, обрабатывающими железо и цветные металлы: моряки видели у них железные наконечники на стрелах и копьях, кинжалы, медные браслеты и другие украшения. Португальцев они встретили очень дружелюбно, и Гама назвал эту землю «Страной добрых людей».
Продвигаясь на север, суда 25 января вошли в лиман, куда впадало несколько рек. Жители и здесь хорошо приняли чужеземцев. На берегу появились два вождя, носившие шелковые головные уборы. Они предлагали морякам набивные ткани с узорами, а сопровождавший их африканец сообщил, что он видел уже корабли, похожие на португальские. Его рассказ и наличие товаров, несомненно, азиатского происхождения, убедили Гаму в том, что он приближается к Индии. Он назвал лиман «Рекой добрых предзнаменований» и поставил на берегу падран - каменный гербовый столб с надписями, который ставился с 80-х гг. XV в. португальцами на африканском побережье в важнейших пунктах. С запада в лиман впадает Кваква - северный рукав дельты Замбези.
Месяц португальцы стояли в устье Кваквы, ремонтируя суда. 24 февраля флотилия вышла из лимана, достигла порта и далее пошла на север. Через неделю флотилия подошла к портовому городу Момбаса. Выйдя из Момбасы, Гама задержал в море арабское доу, разграбил его и захватил 19 человек. 14 апреля он стал на якорь в гавани Малинди. Местный шейх дружелюбно встретил Гаму, так как сам враждовал с Момбасой. Он заключил с португальцами союз против общего врага и дал им надежного старика лоцмана Ибн Маджида, который должен был довести их до Юго-Западной Индии. С ним португальцы вышли 24 апреля из Малинди. Ибн Маджид взял курс на северо-восток и, пользуясь попутным муссоном, довел суда до Индии, берег которой показался 17 мая. Увидев индийскую землю, Ибн Маджид отошел подальше от опасного берега и повернул на юг. Через три дня показался высокий мыс, вероятно, гора Дели. Тогда лоцман подошел к адмиралу со словами: «Вот она страна, к которой вы стремились». К вечеру 20 мая 1498 г. португальские суда, продвинувшись к югу около 100 км, остановились на рейде против города Каликут (ныне Кожикоде).

Экспедиция Гамы не была убыточной для короны, несмотря на потерю двух судов: в Каликуте удалось приобрести пряности и драгоценности в обмен на казенные товары и личные вещи моряков, немалый доход принесли пиратские операции Гамы в Аравийском море. Но, конечно, не это вызвало ликование в Лиссабоне среди правящих кругов. Экспедиция выяснила, какие огромные выгоды может принести для них непосредственная морская торговля с при надлежащей экономической, политической и военной организации дела. Открытие для европейцев морского пути в Индию было одним из величайших событий в истории мировой торговли. С этого момента и до прорытия Суэцкого канала (1869) основная коммерция Европы со странами и с шла не через Средиземное море, а через - мимо мыса Доброй Надежды. Португалия же, державшая в своих руках «ключ к восточному мореходству», стала в XVI в. сильнейшей морской державой, захватила монополию торговли с и удерживала ее 90 лет - до разгрома Непобедимой армады (1588).
LarissaСлучайности закономерны для случайностей. Так получилось, что мне случилась необходимость пробыть в Южной Африке больше месяца. По идее, я хотела за это время побывать и на Мадагаскаре и в Танзании, а если была бы возможность и в других странах африканского континента. Но, во-первых, Эбола закрыла путь в некоторые регионы, во-вторых, паспорт, который застрял в индийском посольстве, а я “застряла” в внутри страны. Что делать? Делать лимонад.
Я начала с Кейптауна и его окрестностей, которые и делают Кейптаун таким привлекательным местом как для жизни, так и для туризма. На небольшом полуострове сосредоточены все: неописуемой красоты пейзажи, богатая винодельная культура, развитая городская инфраструктура, и самое главное – кейптаунцы, люди, которые делают город. Но об этом я уже писала.
Жить в Кейптауне лучше всего либо в Waterfront, Greenpoint, либо в центре, хотя все эти районы в 10 минутной досягаемости друг от друга. Да и вообще передвигаться можно легко либо на общественном транспорте “MyCiti” (по пластиковому абонементу), либо на такси, которое тут не очень дорогое. Кстати, здесь работает UBER.

Пару слов о безопасности. В Кейптауне, да, и в целом в Южной Африке, я чувствую себя спокойно. Обычные меры предосторожности: не заходить в незнакомые “темные” районы одной, не оставлять на виду вещи в машине. К примеру, камерой я спокойно пользовалась в любом месте, без опаски, в отличии от Южной Америки, где постоянно оглядываешься, чтобы кто-нибудь не подбежал и не выхватил ее из рук. Также, в Южной Африке одна из лучших банковских систем в мире. ПОС-терминалами оснащен каждый “киоск”, а ATM стоят на каждом шагу. Кейптаун – “белый” город. Как в плане правящей политической партии, так и в основном населении. Черное население живет в пригородах.

Сухой контекст Южной Африки:
– Страна прошла путь бескровной “революции”, освободившись от апартеида только 20 лет назад.
– 11 официальных языков. Практически все говорят на английском в том числе.
– Правительство инвестирует в развитие туризма. В том числе и в строительство дорог.
– Цены низкие. Национальная валюта – ранд, одна из стабильных валют. Обеспечена золотом, добываемым здесь же. Ну и бриллиантами надо полагать.
Если же планировать свой “отпуск” в Южной Африке, то я бы посоветовала начать именно отсюда, и затем двигаться вдоль побережья до тех пор, пока у вас хватит времени. Моего времени хватило на то, чтобы проехать “от берега до берега” – от Атлантики до Индийского Океана, вплоть до границы с Мозамбиком в национальном заповеднике “Кругер”.
Лучше всего это делать на машине по нескольким причинам:
аренда машин дешевая. (20-50 долларов в день, механика или автомат).
Единственное, к чему предстоит привыкнуть – к правостороннему движению. Привыкание происходит на второй день. Лучше бронировать через интернет заранее. Особенно в высоко-туристские сезоны: декабрь – февраль. Не забывайте, что это лето для Африки.
при аренде можно не брать GPS за доп.плату, а подключить googlemaps через свой смартфон в аудиосистему
не забудьте купить местную сим-карту с планом интернета (отдельно покупается время для разговоров (airtime), и отдельно пакет-данные интернета)
– дороги отличные. движение спокойное.
– пейзажи на каждом шагу захватывают дух
– 1 л бензина стоит примерно 1,2 доллара
Мой маршрут был таким:
Кейптаун и окрестности – неделя
Полуостров. Дневной маршрут вокруг Кейптауна:
Kalk Bay – небольшой городок полный антикварных лавок. Такого выбора я не видела давно. А может и нигде.


Penguin Boulder – свободные южно-африканские пингвины! Это заповедник.
Cape Point – самая южная точка Африки. Ну или почти самая. Самая – это Cape Agulhas, что в 3 часах езды. Но Cape Point стоит посещения.


Обратно возвращайтесь через другую сторону (см. карту) – там встречайте закат.

Stellenbosch (Стелленбош). 2-4 дня.
Винный район в часе езды от Кейптауна. В районе более 40 виноделен от простых “исторических”, до high-end с отелем, рестораном. В каждой винодельне предлагается дегустация (в среднем 15 у.е. за подборку вин). На многих кроме вина производят либо оливковое масло, либо сыр. За день можно объехать до 4-6. Лучше всего, остановиться на ночь в какой-нибудь из них. Винные холмы, вкусная еда, умиротворение, закат…

Graff
Tokara – high end – через дорогу от Graff
Muratie – лучший портвейн ЮАР
 Muratie – портвейн
Muratie – портвейн
Fairview – самый крупный производитель козьего сыра (!), рядом, так называемый Spice Route.
Garden Route / 4 дня минимум / 1800 км

От Кейптауна езжайте в:
Hermanus (Эрманус)

Городок, известный как точка наблюдения за китами (сезон: август – сентябрь). Но сама дорогая – это постоянный экстаз для визуала, не перестаешь захлебываться эмоциями от видов, сочетающих океан и горы. Дорогая идет вдоль побережья и это самый красивый highway, который я когда-либо видела. С ним я бы сравнила дорогу вдоль побережья Италии до Поситано, или вдоль Orange County до Laguna Beach.
Проведите там день, прогуляйтесь вдоль Cliff Path. В соседнем городе можно поехать посмотреть на акул. Для любителей экстрима, можно и нырнуть в клетке. Но мне показалось это негуманным, в основном по отношению к акулам, которых там можно сказать “дразнят”, чтобы показать ныряльщикам.

Cape Agulhas (Кейп Агулас) – самая южная точка Африки, место, где сливаются два океана. Делать там особенно нечего, кроме как поставить галочку в своей тур.книжке.

Knysna (Найсна) – красивый прибрежный город, со своей лагуной, островком, китами, едой. Делать там ничего не надо. Надо просто быть.


Tsitsikamma (Цицикамма) – это отдельная песня.
 Блоукранс – самый высокий мост в мире
Блоукранс – самый высокий мост в мире
Помимо Bloukrans (Блоукранс) – самого высокого моста в мире, с которого совершаются прыжки, надо обязательно заехать в сам национальный парк. Либо на день, либо остановиться там на пару дней. Поразительный бушующий океанический берег! Если вы остановитесь в отеле при парке, то волны будут бить практически в ваше окно. Представьте себе как это просыпаться в таком месте.: с одной стороны супер-волны, с другой – горные леса.
 Нац.парк “Цицикамма”
Нац.парк “Цицикамма”

Jeffreys Bay (Джеффрис Бей) – рай для серфингистов. На знаменитых SuperTubes (супер-волны), проводятся мировые чемпионаты по серфингу.


Если вы после этого возвращаетесь обратно в Кейптаун, то можно поехать уже не вдоль берега, а немного вглубь и посетить пещеры.
Но. Если вы решите ехать дальше, то ваш путь лежит в Transkei. Трайнскай – это дикий рай. Здесь вы не найдете “отелей”, а только backpackers или в лучшем случае B&B. Но если вы любите нетронутую природу, отсутствие туристов, пешие походы, то вам понравится.








Из Транскай нужно ехать в Drakensberg (Дракенсберг) – еще одно “дикое”, но совершенно потрясающее место, где расположен национальный парк Royal Natal. Ехать туда стоит за горами. За такими горами, который стоят как амфитеатр, собственно, так и называется это горная гряда.












За один день доехать можно, но тяжко (этот отрезок дороги в одну полосу), лучше остановиться на ночь в Durban (Дурбан). Как мне показалось в Дурбане больше, чем на ночь останавливаться не за чем. Город непривлекательный, а пляжей вы уже насмотритесь и лучше.
А дальше уже в заповедник Kruger (Круга). Опять же, можно доехать и за день, но я остановилась в Nelspruit (Нельспрут), городок, в часе езды от Кругера. Остановиться надо под нескольким причинам: 1) время в дороге от Дракенсберга до Кругера 8 часов. 2) Ворота в Кругер (а это “мир животных”) закрывают в 18.00. 3) в Нельспруте есть B&B, в котором так хорошо отдохнуть в пути. А утром спокойно въехать в заповедник.
Kruger National Park (Национальный заповедник Кругер).
Кругер стал моим первым опытом “сафари”. Не знаю как вы представляли это себе сами, но мне казалось, что это должно быть “дико”: палатка, москиты, рычание львов по ночам. Оказалось, что все проще. Это больше похоже на огромный мир животных, с островками для ночлега людей. Островки эти вполне цивилизованные, как огражденные лагеря гостиничного типа, с заправками, магазинами, и, понятно, домиками. Рано в 6 утра ворота лагерей открываются, и люди выезжают на своих авто, чтобы потеряться в саванне на день, ровно до 18.00, когда ворота снова закрываются. Ночные сафари разрешены только с экспедиторами (типа экскурсии, называются game drive). Геймдрайв – это такая “экскурсия”, когда вас сажают в миниавтобус открытого типа и везут в проверенные места, где точно есть животные. Ну они есть везде, но, например, львов или леопардов самим найти сложно, а экспедиторы знают “злачные” места. В общем, даже если вы будете ездить сами, возьмите 1-2 геймдрайва.





Я в Кругере провела 4 ночи, каждую в разном лагере. Каждый лагерь расположен в “другой” зоне, отличающейся как пейзажами, так и даже климатом, и, соответственно животными. На самоезде я увидела всех “BIG5” (Большую Пятерку: слон, носорог, лев, леопард, буйвол), кроме леопарда. А также десятки жирафов, косуль, антилоп, мангустов, диких собак, и прочих прочих прочих животных и птиц. Сегодня разговаривала с одной парой, которые приезжают в ЮАР четвертый раз и ни разу не видели леопарда. А другие видят их постоянно. В общем, тут как повезет.
Небольшой дискомфорт только в том, что ездить приходится целый день, а выходить из машины нельзя. Но можно, например, выехать рано утром, затем вернуться днем, а затем выехать ближе к закату. Но, если честно, так увлекательно, что останавливаться днем невозможно. Кстати говоря, многие приезжают в парк со своим кэмпингом, и в этих же лагерях арендуют не бунгало, а место, где разбивают свои тенты и живут тут неделями. Особенно семьи, и пенсионеры.
Про семьи. Мне кажется, что для детей это один из самых одновременно захватывающих и полезных видов отдыха. Какой там Микки-Маус, говорите?



Несколько советов:
Бронировать “отели” нужно заранее. Это очень популярное направление.
Можно остановиться как в “отелях”, принадлежащих нац.парку, а можно в частных, последние – luxury, и, соответственно в 3-4 раза дороже.
Можно остановиться и вне парка, а парк заезжать на день, но тогда вы не сможете исследовать парк рано утром, или ночью, а это стоит того.
Машина нужна обязательно. Парк работает по принципу – self-drive, то есть ты сам ездишь по нему. Можно, конечно приехать на день с тур.автобусом….
Парк – огромный. Максимальная скорость передвижения – 50 км/ч. Чтобы проехать от одного лагеря к другому, например, расстояние в 100 км. может уйти несколько часов, так как вы же на животных приехали смотреть, а не передвигаться от точки А до точки Б.
Дороги в парке асфальтированные, а те, что неасфальтированные все-равно хорошо укатанные, поэтому обычная малолитражка спокойно подойдет.
Если останавливаться в лагерях парка, то они self-catered. То есть, все бунгало оснащены кухнями, где вы можете готовить еду сами. Во всех лагерях есть большие или небольшие продуктовые магазины. Также, в большинстве из них работают и кафе-рестораны. Где-то лучше, где-то хуже.


Но в целом, мир животных меня заворожил… Представьте себе, что в метре от вас вдруг выходит жираф и как ни в чем ни бывало начинает жевать высокий куст, в котором сидит антилопа, а рядом пасется стадо слонов. При этом в чувство тебя приводит опасность, так как все они – дикие животные. Так, если слон начинает коситься на вас и при этом “распускает” уши, лучше потихоньку отъехать в сторону.
Как вы поняли, ЮАР я очень сильно рекомендую. Более того, думаю, что я постараюсь организовать что-нибудь с друзьями по поводу поездки сюда. И если вам нужны будут советы по организации вашего путешествия, не стесняйтесь, обращайтесь, буду рада помочь, если смогу.
*Единственный город, который мне все рекомендуют избегать это Йоханнесбург, как самый опасный и криминогенный, из-за большого количества нелегальных иммигрантов, которые захватили целые жилые районы и из-за отсутствия возможности легально работать промышляют разбойными нападениями. Поэтому туда я не поехала.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПУТЬ ИЗ АФРИКИ
Одним из наиболее эффектных материалов в области популярной генетики явилась публикация в конце 1980-х гг. на обложке журнала «Newsweek» фото с изображением изысканно-соблазнительных чернокожих Адама и Евы, делящих пополам пресловутое яблоко. На прародителей человечества одобрительно поглядывает змей-искуситель.
Фото 3. Обложка культового номера «Newsweek» от 11 января 1988 г., где помешена статья, излагающая историю «митохондриевой Евы» мира.
Эта обложка обеспечила номеру журнала рекордный тираж. Однако, несмотря на прием из арсенала массмедиа, «Newsweek» действительно опубликовал информацию о важном научном открытии. И знаменитое фото, и текст вступительной статьи сообщали о двух важнейших достижениях научной мысли. Первым из них явилось опубликованное в 1987 г. исследование в области генетики, где говорилось об открытии генов, которые передаются только по материнской линии. Это исследование, авторами которого были Ребекка Канн и ее коллеги, развеяло в пух и прах устаревшие аргументы о месте появления первых людей современного типа. Согласно новейшим свидетельствам, мы, «современная человеческая семья», произошли от одной-единственной генетической линии, сложившейся за последние 200 тысяч лет в Африке, а не в многочисленных изолированных очагах эволюции, разбросанных по всему миру. Эта единственная линия, восходящая к нашему общему предку с неандертальцами, дала начало примерно полудюжине основных материнских кланов (или ветвей), африканские корни которых четко прослеживаются и в наши дни.
Второй причиной использования знаменитой библейской аллегории на обложке «Newsweek» явилось то, что данный генетический метод использовал митохондриевую ДНК (мтДНК), передаваемую только по материнской линии. Десять лет спустя небольшая группа генетиков воспользовалась этим вновь открытым методом и установила, что одна-единственная отрасль дюжины с лишним материнских наследственных генетических ветвей древнейших африканских предков послужила основой для возникновения линии, ставшей родоначальницей всего остального населения земного шара. Другими словами, у всех женских генетических ветвей в Африке существовал некий общий предок, или «митохондриевая Ева», а затем, много позже, сложилась «дочерняя» линия «Евы выходцев из Африки», чьи генетические дочери, то есть потомки по женской линии, заселили весь остальной мир. Это открытие стало поистине эпохальным.
Титул «Ева», или «Первая леди», который с такой готовностью подхватили массмедиа тех лет, заключал в себе не совсем тот смысл, который вкладывали в него генетики. Благодаря изучению митохондриевой ДНК ученые сумели выявить древнейшую женскую генетическую линию, охватывающую только крохотную частицу нашей генетической наследственности.
Митохондриевая Ева отнюдь не была некой конкретной личностью, «Праматерью», как это часто заявляли представители массмедиа. Отслеживание материнского генетического маркера в глубь далекого прошлого, к древнейшему общему прапредку, вовсе не означает, что абсолютно все наши гены в буквальном смысле происходят от одной-единственной женщины. Дело в том, что в ядре каждой клетки нашего тела имеется более 100 тысяч генетических участков (специальный термин для их обозначения - «локусы»), которые необходимо зафиксировать. Любой из этих участков может использоваться в качестве маркерной системы для отслеживания генетической линии вплоть до древнейшего общего предка. Поскольку эти участки перемешиваются в каждом новом поколении, далеко не все ветви их генетического древа ведут к одному и тому же предку. По сути дела, генетическая наследственность современных людей может быть выведена на основе биологического ядра африканцев численностью от 2000 до 10 000 человек, живших около 190 тысяч лет тому назад.
Хотя может показаться, что сухая реальность параллельного существования «генетического древа» и «генеалогического древа» развеяла романтическое очарование легенды о Еве, она нисколько не уменьшает исключительной роли генетического отслеживания в величественной истории странствий человечества за последние 200 тысяч лет. И возможность поведать практически ту же историю благодаря целому ряду различных генов лишь подтверждает истинность этого повествования и обогащает его. Так, например, мужские генные линии рисуют куда более яркую и увлекательную картину рассеяния по странам и континентам, чем женские генеалогии. К примеру, недавно в Южной Африке было найдено так называемое исчезнувшее колено Израилево, идентифицированное генетиками как этническая группа, имевшая еврейских предков, однако - только по материнской линии.
Возражения мультирегионалистов и генетиков
Простой и ясный принцип отслеживания маршрутов миграций человеческого по всему земному шару при помощи генетических маркеров не мог не вызвать возражений. Естественно, первыми отвергли его мультирегионалисты. К ним по большей части относились палеоантропологи, которые по-прежнему считали, что каждая из «рас» на нашей планете произошла от своего собственного архаического предка, например, «яванского человека», «пекинского человека», неандертальца и прочих вымерших видов, живших в различных частях земного шара. Одна из ключевых проблем при этом заключается в том, что современные люди, несмотря на все региональные различия между ними, во многих отношениях гораздо ближе друг к другу, чем были их предполагаемые древнейшие предки. Чтобы хоть как-то объяснить эти несоответствия, мультирегионалисты сегодня утверждают, что различные региональные «подвиды человека» в последующие эпохи активно смешивались и обменивались друг с другом генетическим материалом, в результате чего и сформировались сложные современные расы, которые мы видим сегодня (рис. 1.1).
Однако генетические данные не позволяют выявить четких свидетельств такого межрегионального смешения. Географическое распределение ветвей и отраслей современных генетических древ митохондриевой ДНК и Y-xpoмосомы групп выходцев из Африки имеют выраженные региональные отличия и особенности. Отстаивая последние бастионы своей гипотезы, мультирегионалисты расширили концепцию «компромисса межрегионального смешения», чтобы включить в нее гипотезу об исходе из Африки, утверждая, что архаические региональные группы населения, такие, как неандертальцы, могли время от времени смешиваться с пришельцами анатомически современного типа, «совершенно такими же, как мы», то есть, другими словами, с кроманьонцами.

«Анатомически современные люди» - это представители вида Homo sapiens (sensu stricto), обладавшие комплексом особенностей строения скелета, которые отличали и нас, и наших непосредственных предков, живших в Африке около 200 тысяч лет тому назад, от вымершего архаичного вида Homo sapiens (sensu lato), включая и нашего близкого родича - Homo helmei. Главной особенностью «анатомически современного» человека является высокий круглый череп, выступающий подбородок, небольшие лицо и челюсти и слабо выраженные надбровные дуги. Межрегиональное смешение архаических туземцев и пришельцев представляет собой мягкий компромиссный вариант гипотезы исхода из Африки, позволяющий объяснить присутствие некоторых генов архаических видов человека в генетическом «котле» современного человека. В качестве примера подобной «гибридизации» не раз назывался найденный в Португалии детский скелет с короткими неразвитыми конечностями, возраст которого - 24 500 лет, то есть относящийся к эпохе, когда неандертальцы уже давно вымерли. И все же среди генных проб мтДНК и Y-хромосом, сданных десятками тысяч добровольцев, живущих за пределами Африки, не обнаружено даже минимальных проявлений подобного рода смешения.
Честно говоря, история на этом не кончается. Хотя свидетельств наличия таких современных архаических «примесей» в генетических линиях «Адама» и «Евы» не существует, эти линии сами по себе составляют крайне незначительную часть обширной «библиотеки» геномов ДНК. Поскольку каждому последующему поколению передается только одна копия мтДНК и Y-хромосомы, линии мтДНК неандертальцев лишь в крайне редких случаях пересекались и смешивались с кроманьонским типом, а затем окончательно вымерли. Однако среди остатков огромного нуклеарного генома до сих пор прослеживаются следы генного смешения. А поскольку такая нуклеарная ДНК смешивается и расщепляется в каждом поколении, крайне сложно построить генетическое древо для каждой из бесчисленных генных линий и с уверенностью сказать, что на нем принадлежит людям современного анатомического типа, а что является наследием регионального архаического населения. Таким образом, как утверждают некоторые ученые, не исключено, что густые кустистые брови коренастых игроков в регби и футбольных хулиганов представляют собой генетическую прапамять о неандертальцах, а не (что, на мой взгляд, более вероятно) нормальные вариации внешности анатомически современного человека.
Совсем другие возражения выдвигают представители традиционной генетики. Они были удивлены и даже, по всей видимости, обескуражены тем, что митохондриевая ДНК дала столь четкую генетическую картину даже при применении их собственных методов с использованием традиционных генных маркеров ядер (передаваемых как мужчинами, так и женщинами), демонстрируя с годами все менее четко выраженную оппозицию между Африкой и остальным миром. Эта нечеткость объясняется целым рядом факторов. Наиболее важным из них можно считать излюбленный традиционалистами классический подход, заключающийся в реконструкции древа массовых миграций, а не в построении древа изменений самих генных линий. Показательно, что подобные идеи сохранились и в более широкой и математически обоснованной концепции «расовых миграций», а не в отслеживании миграций индивидуальных линий самих генов, выявленных у данной группы населения. Другим важным фактором явилось смешение и перенос генных линий в каждом последующем поколении, чего никогда не происходит с мтДНК. Таким образом, большинство генных маркеров, использовавшихся традиционалистами, имели весьма несложные деревья с небольшим число очень древних ветвей, тогда как отростки на них были общими для многих рас населения.
По всем вышеизложенным причинам традиционный способ сравнения наследственных признаков у жителей разных регионов путем замеров частоты присутствия тех или иных генов в ядре имел коренной недостаток применительно к изучению древнейших миграций. Он со всей наглядностью продемонстрирован в исследовании присутствия генов внутри ядра на основе всего одного генного локуса (т.е. речь в данном случае не шла о генах Адама и Евы), осуществленном Джеймсом Уэйнскотом и его коллегами из Оксфордского университета, сторонниками модели африканского происхождения. Это исследование было опубликовано журнале «Nature» в 1986 г. Таким образом, оно вышло в свет всего за год до появления открытий Ребекки Канн, о которых сообщалось в статье в «Newsweek». В той памятной статье были использованы данные генетических проб, взятых у людей со всех концов света, в том числе и проб, взятых мною в 1984 г. в Новой Гвинее. Вместо сравнения относительной частоты встречаемости многих генов Уэйнскот выстроил генеалогическое древо на основе одного-единственного генного локуса. Результат был в принципе тем же самым, что и выводы Канн, свидетельствуя об африканском происхождении. Другие генетики также выдвинули целый ряд технически аргументированных возражений против анализа генов Евы. С тех пор эти возражения технического характера снимаются один за другим.
В результате недавнего анализа другой несмешанной системы, Y-хромосомы, и исследований многих других генных маркеров первоначальная версия о происхождении людей современного типа из Африки, подтверждаемая маркерами митохондриевой ДНК, одержала триумфальную победу, и мультирегионалисты превратились в изолированное, но задиристое и горластое меньшинство.
Два маршрута исхода из Африки?
Несомненно, предки современных людей вышли из Африки, как и их ближайшие родичи - приматы, однако конкретное время и маршруты такого исхода, как и всегда, определялись колебаниями климата. В древности существовало два потенциальных маршрута исхода из Африки - северный и южный, и каким именно воспользоваться в ту или иную эпоху, зависело от погодных условий. Когда оказывался открытым какой-то один из них, он указывал мигрантам дальнейший путь - на север или на восток. Люди современного типа впервые совершили исход из Африки около 120 тысяч лет тому назад, пройдя через северные врата континента. Как мы увидим ниже, этот первый исход завершился трагически. Второй же, успешный исход, открыл им путь через Азию, на юг и восток - путь, проторенный их предшественниками. Что касается Европы, то ее они игнорировали примерно до 50 тысяч лет тому назад.
Африка стала родиной всего многообразия видов человека, населяющих нашу планету. Необъятная и изолированная
природная лаборатория вновь и вновь переплавляла человеческий материал, пропуская его через бесчисленные циклы появления пустынь и появления зелени. Уникальное по масштабам лоскутное одеяло саванн и лесов, которое представляла собой Африка на пороге Сахары, было надежно изолировано от остального мира двумя комплексами естественных ворот и коридоров. На протяжении двух последних миллионов лет эти коридоры действовали как громадные загоны для переселенцев и их скота, загоны, ворота которых попеременно открывались и закрывались. Когда один комплекс ворот открывался, другой обычно закрывался. Одни ворота вели на север, через Сахару и Левант, в Европу, тогда как другие открывали путь на восток, через устье Красного моря, в Йемен, Оман и Индию. Какие именно из ворот оказывались открытыми в данный конкретный период, зависело от очередного цикла оледенения, который, собственно, и определял, какие виды млекопитающих, включая человека, могут мигрировать из Африки, направляясь на север, в Европу, или на восток, в Азию.
В наши дни дни Африка соединена с Евразийским макроконтинентом всего лишь одним из прежних коридоров - знаменитым Синайским полуостровом на северовостоке. Эти суровые места, представлявшие собой засушливую пустыню, служили потенциальным маршрутом через Сахару и Синайскую пустыню - дорогой, которая вела во внешний мир и, словно звездные врата из какого-нибудь научно-фантастического фильма, открывались людям лишь тогда, когда очередное изменение угла орбиты Земли или наклона полярной оси вызывало кратковременный период потепления. Именно такой редкий эпизод в геологической истории Земли и имел место около 100 тысяч лет тому назад, когда усиление солнечной активности повлекло за собой активное таяние ледников, и на нашей планете установился теплый и достаточно влажный климат. Пустыни Сахара и Синай, а также пустыни далекой Австралии превратились в огромные озера, окруженные буйной растительностью и достигшие расцвета во время своей короткой геологической весны (рис. 1.2). Но поскольку эта интерлюдия тепла оказалась очень краткой, климатические врата Северной Африки, впустив мигрантов, оказались для них смертельной ловушкой.
На протяжении большей части последних 2 млн. лет люди вдоволь натерпелись голода и холода в суровом плену плейстоценовой ледниковой эпохи, и поэтому непродолжительное, но заметное потепление климата на нашей планете, открывшее им врата Эдема, известно у геологов под названием междуледникового оптимума.
Эти краткие, но пьяняще прекрасные паузы резко контрастировали с привычным холодным и сухим климатом ледниковых просторов плейстоцена. Нам, современным людям, довелось пережить лишь два таких райских периода за все время нашего существования на Земле. Последний из таких междуледниковых оптимумов имел место около 8000 лет тому назад, и мы до сих пор наслаждаемся последними лучами его осеннего тепла. На протяжении примерно 2000 лет Сахара представляла собой степь, покрытую густыми травами, и бесчисленное множество всевозможных видов животных мигрировало по ее просторам с юга на север, через Северную Африку на Левант.

По иронии судьбы в наши дни глобальное потепление, вызванное всеобщим загрязнением окружающей среды, помогает затормозить неизбежный возврат к такому же более засушливому и холодному климату, который господствовал на Земле на протяжении большей части нашего существования на ней.
Как правило, свидетельства таких древних климатических драм в доисторические эпохи ученые получают в результате раскопок глубоко залегающих слоев или бурения скважин в полярных ледяных шапках и на морском дне. Однако в данном случае нам не требуются обстоятельные научные доказательства из области археологии и климатологии, чтобы доказать истинность нашей теории. Мы можем увидеть все это собственными глазами, побывав в Сахаре и полюбовавшись удивительными наскальными рисунками, уцелевшими в самом ее сердце. Там более 8000 лет назад безвестными древними художниками были созданы многие и многие тысячи натуралистических изображений вымерших видов буйволов, слонов, носорогов, бегемотов, жирафов, страусов и больших антилоп.

Фото 4. Найденные в Сахаре наскальные рисунки слонов, бегемотов и жирафов, возраст которых - ок. 8 тыс. лет, аналогичные этим из Феззана, Ливия, реальное напоминание о временах, когда в этих местах простирались травянистые саванны.
Более того, эта удивительная историческая хроника велась непрерывно на протяжении нескольких тысячелетий. Наиболее поздние рисунки со всей очевидностью свидетельствуют, что обилие видов животных в Сахаре практически исчезло около 5000 лет назад, уступив место верблюдам и тарантулам.
Это время, когда животные из Центральной Африки потоком устремились на земли нынешнего Марокко, Египта и дальше, на Левант, представляло собой нечто вроде редчайшего дождя в пустыне, под живительными струями которого просыпаются и оживают семена растений, долгие десятилетия дремавшие в земле.
Увы, этот земной рай просуществовал очень недолго; животные покинули эти края, и в них вновь воцарилась безжизненная пустыня. Крупные млекопитающие, в отличие от растений, не имели семян, которые можно было бы надолго укрыть в песке до наступления лучших времен. Не только млекопитающие, но и другие животные, лучше адаптирующиеся к неблагоприятному климату, например пустынный узкорот или двоякодышащие рыбы, могут на непродолжительное время погружаться в некий анабиоз в ожидании следующего дождя. Таким образом, во время предыдущей междуледниковой паузы, первой за время существования человека на Земле, отважные первопроходцы, устремившиеся на север, успели покинуть пределы Африки и попасть на Левант до того, как за их спиной вновь затворились врата Сахары.
Более ранняя междуледниковая пауза, известная среди ученых как Эмианская, или Ипсвичская, пауза, наступила около 125 тысяч лет тому назад, вскоре после появления на Земле людей современного типа. Благодаря находкам человеческих останков мы знаем, что древнейшие люди современного типа мигрировали из окрестностей Сахары в Северную Африку и на Левант в очень и очень отдаленные времена. Действительно, наиболее древние останки человека современного типа, найденные за пределами Африки, возраст которых составляет от 90 до 120 тысяч лет, были найдены именно в странах Леванта. Возникает принципиальный вопрос: не оставили ли они там сколько-нибудь заметный след? Судя по всему - нет.
Из Африки в Европу: неудавшийся первый исход
Пока первые научные данные не получили убедительного подтверждения, ученые - сторонники гипотезы исхода из Африки - полагали, что древнейший исход людей современного типа на север Африки и далее, на Левант, сформировал своего рода биологическое ядро, из которого впоследствии возникли народы Европы и Азии. Однако подобные аргументы страдали серьезным недостатком. Дело в том, что следы человека современного типа в этих местах около 90 тысяч лет тому назад практически исчезают. Благодаря климатологическим исследованиям мы знаем, что именно около 90 тысяч лет тому назад на Земле наступил краткий, но разрушительный по своим последствиям период резкого глобального похолодания и засухи, в результате чего весь Левант превратился в безжизненную пустыню. После отступления ледников и нового потепления Левант был быстро заселен, но на этот раз - представителями другого вида, нашего ближайшего «кузена» на генеалогическом древе - неандертальцами, которые, по всей вероятности, оказались оттесненными к югу, в регион Средиземноморья, в результате наступления ледников, надвигавшихся с севера. Мы не располагаем материальными свидетельствами пребывания людей современного типа на Леванте или в Европе на протяжении последующих 45 тысяч лет, до тех пор пока примерно 45-50 тысяч лет тому назад на арене истории не появились кроманьонцы (о чем говорит появление авгурисианской техники изготовления орудий), бросившие вызов неандертальцам, оттеснив их на север, на их древнюю прародину.
Таким образом, большинство специалистов сегодня полагают, что первые люди современного типа, выходцы из Африки, вымерли на Леванте в результате резкого похолодания и возврата засушливого климата, под влиянием которого Северная Африка и Левант быстро превратились в бесплодные пустыни.
Коридор, пролегавший через Сахару, захлопнулся, словно гигантская ловушка, и мигранты, оказавшиеся в ней, не смогли ни возвратиться назад, ни найти пригодных для жизни земель. Зияющая пропасть в 50 тысяч лет между исчезновением следов первых переселенцев на Леванте и последующим вторжением туда новой волны переселенцев из Европы, вне всякого сомнения, ставит под вопрос обоснованность широко распространенной версии о том, что первый исход из Африки на север якобы завершился успешно и создал биологическое ядро будущих европейцев. Давайте же задумаемся - почему.
Чтобы понять, почему многие европейские авторитеты в области археологии и антропологии настаивают, будто европейцы возникли самостоятельно и независимо от первого исхода из Северной Африки, необходимо помнить о том, что здесь мы имеем дело с одним из проявлений культурологического европоцентризма, стремящегося объяснить последствия первого исхода. Наиболее важным проявлением такого мышления является несокрушимая убежденность европейских ученых XX в. в том, что именно кроманьонцы, мигрировавшие в Европу не позднее 50 тысяч лет тому назад, и явились основоположниками людей «современного типа» в полном смысле слова. Эта человеческая эпифания, принесшая невиданный расцвет всевозможных искусств, ремесел и технических возможностей и культуры в целом, известна среди археологов под сухим названием «европейский Верхний палеолит». По мнению многих ученых, это было нечто вроде творческого взрыва, знаменовавшего начало эпохи мыслящего человека на Земле. Именно к этой культуре восходят впечатляющие наскальные рисунки в пещерах Шове и Ласко, а также изысканные, тонко проработанные резные фигурки «Венеры», которые археологи находят по всей Европе.
При этом обычно можно слышать аргументы типа «если мы действительно вышли из Африки и если та древняя культурная революция, столь красноречиво говорящая о даре абстрактного мышления, пришла в Европу с Леванта, она в лучшем случае могла представлять собой краткий привал на пути из Египта». Ergo, «мы, люди Запада» (это «мы» объясняется тем, что сторонники этой гипотезы - исключительно европейцы или имеют европейские корни), - всего лишь потомки выходцев из Северной Африки. Таким образом, северный маршрут для многих специалистов является этакой концептуальной отправной точкой миграции или, лучше сказать, исхода из Африки. В следующей главе мы рассмотрим, почему с точки зрения логики невозможно допустить, что первыми «людьми полностью современного типа» были европейцы, и как случилось, что первыми современными людьми, способными говорить, петь, танцевать и рисовать, стали именно африканцы, причем произошло это задолго до исхода некоторых их групп со своего родного континента.
Однако попытки дать убедительное объяснение того, как конкретно предки современных европейцев, жившие некогда в окрестностях Сахары, задумали и осуществили исход из Африки, связаны с целым рядом серьезных проблем. Для начала надо заметить, что, поскольку пустыня Сахара на протяжении последних 100 тысяч лет служила непреодолимой преградой для мигрантов, любые позднейшие вторжения выходцев из Северной Африки в Европу могли начинаться с какого-нибудь зеленого прибежища - островка растительности, еще остававшегося в Северной Африке, например из района дельты Нила, после междуледниковой паузы. Предки европейцев не могли 45-50 тысяч лет тому назад совершить исход из региона Сахары напрямую, кроме как на плотах вниз по течению Нила, однако генетическая история решительно отвергает подобную возможность.
Зеленое прибежище в Египте?
Если на всем протяжении длительного засушливого периода после междуледниковой паузы в Северной Африке действительно существовало подобное зеленое прибежище, оно около 45 тысяч лет тому назад вполне могло послужить временным приютом и перевалочным пунктом для предков будущих европейцев. Да, в древности в Северной Африке действительно существовало несколько обширных зеленых оазисов, в частности, дельта Нила в Египте и Средиземноморское побережье нынешнего Марокко. Недавняя находка детского скелета в погребении на холме Тарамса в Египте, датируемая ориентировочно между 50 и 80 тысячами лет тому назад, свидетельствует о том, что там могли сохраниться реликтовые группы населения. Ряд ведущих сторонников гипотезы исхода из Африки сразу же обратили внимание на эту находку, поскольку она предлагает реальное и вполне убедительное объяснение паузы протяженностью в 45-50 тысяч лет. Наибольшей известностью среди них пользуется Крис Стрингер, убежденный приверженец гипотезы о происхождении современных людей из Африки и один из руководителей Лондонского музея естественной истории. Стрингер утверждает, что ребенок-египтянин из Тарамсы принадлежал к колонии обитателей оазисов Северной Африки и что выходцами именно из таких колоний и были мигранты, покинувшие около 50 тысяч лет тому назад Африку и ставшие предками жителей Леванта и Европы.
И все же археологические свидетельства присутствия кроманьонцев в Северной Африке крайне скудны и немногочисленны. Даже те каменные орудия эпохи Среднего палеолита, которые были найдены в захоронении ребенка на холме Тарамса, вполне могли быть созданы неандертальцами, и их никак нельзя считать доказательством взрывного роста новых технологий, проникших в ту эпоху в Европу.
Проблема Австралии
Но, пожалуй, наиболее серьезной проблемой для европоцентрической концепции культурного развития, в основе которой лежит гипотеза о северном маршруте исхода из Африки, является сам факт существования австралийских аборигенов, создавших свою собственную культуру пения, танца и живописи задолго до европейцев и, естественно, без какой бы то ни было помощи с их стороны. Но тогда выходцами из какого района Африки они были? Какой маршрут завел их в такую даль, на край света? Можно ли считать их ветвью того же исхода, в котором принимали участие и предки современных европейцев? И, наконец, самое главное: каким образом и почему они попали в Австралию гораздо раньше, чем предки европейцев - в Европу? Эта загадка породила целый ряд попыток объяснения.
Понятно, что ответить на все эти вопросы, исходя из гипотезы об одном-единственном северном исходе из Африки в Европу, имевшем место примерно 45 тысяч лет тому назад, за которым последовало расселение человека по всему остальному миру, как то утверждает чикагский антрополог Ричард Клейн в своем классическом труде «Развитие человека», попросту невозможно. Известный зоолог, знаток Африки, художник и писатель Джонатан Кингдон идет еще дальше, доказывая, что первый, «неудачный» северный исход африканцев на Левант, имевший место около 120 тысяч лет назад, привел к расселению уцелевших мигрантов и колонизации Юго-Восточной Азии, а затем и Австралии примерно 90 тысяч лет назад. Эта версия также допускает всего один исход из Африки, и притом по северному маршруту. Крис Стрингер избрал наиболее легкий путь, утверждая, что Австралия была колонизована независимо от этого исхода и задолго до освоения Европы в результате отдельного исхода африканцев в обход Красного моря (см. рис. 1.3).
Во многом соглашаясь с Крисом Стрингером, археолог Роберт Фоули и палеонтолог Марта Лар из Кембриджского университета тоже утверждают, что цепь зеленых оазисов в Северной Африке, простиравшаяся на всем протяжении северного маршрута через Левант, имела жизненно важное значение для предков европейцев и жителей стран Леванта. Эти исследователи не испытывают никаких проблем с количеством исходов из Африки, утверждая, что в глубокой древности имело место множество больших и малых миграций, отправными точками для которых служили оазисы, разбросанные по Эфиопии и всей Северной Африке. Эта точка зрения учитывает значительный рост численности населения в самой Африке во время междуледникой паузы, около 125 тысяч лет тому назад.
Лар и Фоули полагают, что возвращение прежнего холодного и засушливого климата привело к тому, что африканский континент как бы разделился на отдельные обитаемые районы-колонии, совпадающие с границами зеленых оазисов (см. рис. 1.6), обитатели которых на протяжении последующих 50 тысяч лет были разделены непреодолимыми пустынями. Согласно схеме Лар-Фоули, предки аборигенов Восточной Азии и Австралии могли быть выходцами из Эфиопии, которые, переправившись через Красное море, отправились в дальние странствия. Они могли выбрать южный маршрут и двинуться по нему в путь совершенно независимо от предков будущих европейцев. Не так давно Фоули и Лар получили «подкрепление»: ряды сторонников северного и южного исходов пополнил американский генетик Питер Андерхилл, специалист в области изучения Y-хромосомы. Он выступил с исследованием, в котором осуществил синтез генетических доисторических факторов. Все трое ученых постулировали древний исход в Австралию по южному маршруту, признавая, что основным маршрутом исхода из Африки был все же северный путь, через Суэц и Левант, в Европу и остальные регионы Азии (рис. 1.3) и что он имел место между 30 и 45 тысячами лет тому назад.
Таким образом, обоснованность высказываемого многими специалистами по Евразии мнения о том, что предки европейцев были выходцами из Северной Африки, зависит от целого ряда факторов. К их числу относятся наличие достаточно обширных прибежищ-оазисов в Северной Африке и либо многочисленные разновременные миграции из Африки, либо очень ранняя протомиграция с Леванта в страны Дальнего Востока.
Существует и проблема идеологического плана: это - попытка зарезервировать северный маршрут исхода только за предками будущих европейцев.

Высказываясь поначалу откровенно и прямолинейно, Джонатан Кингдон утверждал, что ранний северный исход из Африки произошел около 120 тысяч лет тому назад, во время так называемой Эмианской междуледниковой паузы. Поскольку многие коридоры в пустынях Африки и Западной Азии в ту эпоху пышно зеленели буйной растительностью, предполагаемые мигранты в Австралию могли без помех продвигаться все дальше на восток с Леванта до Индии. Разумеется, они могли остановиться на длительный привал в зеленых районах Южной Азии, прежде чем двинуться дальше, в Юго-Восточную Азию, куда они прибыли около 90 тысяч лет тому назад. (Под термином «Южная Азия» я имею в виду те страны, расположенные между Аденом (Йеменом) и Бангладеш, которые выходят на береговую линию Индийского океана. К числу этих стран относятся Йемен, Оман, Пакистан, Индия, Шри-Ланка и Бангладеш, а также государства, расположенные на побережье Персидского залива: Саудовская Аравия, Ирак, Бейрут, Объединенные Арабские Эмираты и Иран.)
В качестве доказательства присутствия еще в глубокой древности разумного человека на Леванте Джонатан Кингдон ссылается на многочисленные орудия эпохи Среднего палеолита, найденные в Индии. Возраст некоторых из них - 1бЗ тысячи лет. Однако наиболее серьезной проблемой здесь является полное отсутствие скелетных останков человека современного типа такой древности где бы то ни было за пределами Африки. Кингдон утверждает, что эти орудия могли быть изготовлены людьми предсовременного или архаического типа (или мапа, как он их называет), которые как раз в то самое время обитали в Восточной Азии.
Понятно, что для того, чтобы попасть в Австралию, предки австралийцев должны были пересечь с запада на восток всю Азию, однако у нас нет никаких материальных доказательств того, что анатомические современные люди совершали миграции через всю Азию около 90 тысяч лет назад, не говоря уж о более ранней эпохе - 120-163 тысячи лет назад.
Преграды на востоке
С предложенной Кингдоном датировкой временных рамок колонизации Юго-Восточной Азии - 90-120 тысяч лет - связана и другая серьезная проблема. Если, согласно его гипотезе, первая волна миграции в Юго-Восточную Азию покинула земли Леванта несколько позже 115 тысяч лет тому назад, она, по всей вероятности, бесследно сгинула на необозримых просторах Азии. Анализ массовых миграций человека и других видов млекопитающих из Африки в Азию за последние 4 млн. лет свидетельствует о том, что, за исключением первой междуледниковой паузы, мигрантов, продвигавшихся с Леванта во внутренние районы Азии, ожидало множество труднопреодолимых препятствий. В эпохи, когда мир не был согрет благодатным теплом междуледниковой паузы, переселенцам то и дело встречались высокие горы и иссушенные зноем пустыни, служившие непреодолимыми преградами на пути на север, восток и юг от Леванта. На севере и востоке протянулась огромная горная цепь Загрос-Таурус, которая вместе с Сирийской и Аравийской пустынями изолировала Левант от Восточной Европы на севере и индийского субконтинента на юге. При обычных климатических условиях оледенения это были непроходимые гористые пустыни. Не было удобного обходного пути и на севере, где высились хребты Кавказа и шумело Каспийское море.
В древности, как и во времена Марко Поло, самым удобным альтернативным путем из Восточного Средиземноморья в Юго-Восточную Азию было как можно скорее добраться до Индийского океана и далее двигаться вдоль его береговой линии. Однако к югу и востоку от Леванта простирались Сирийская и Аравийская пустыни, и единственно возможный маршрут вел из Турции через долину Тигра и далее на юг, вдоль западного склона горной гряды Загрос, до самого побережья Персидского залива (см. рис. 1.6). Однако этот маршрут, пролегавший через так называемый Плодородный Полумесяц, в периоды похолодания и засухи по окончании междуледниковых пауз также лежал через безжизненные пустыни и, естественно, был закрыт для древних мигрантов.
Практическая невозможность для людей современного типа попасть из Леванта в Египет или Юго-Восточную Азию в период от 55 до 90 тысяч лет тому назад означает, что северный маршрут исхода из Африки в те времена позволял покинуть Черный континент только предкам будущих европейцев и жителей Леванта, а никак не праотцам обитателей Юго-Восточной Азии или Австралии. Между тем, как это ни странно, Европа и Левант не подвергались сколько-нибудь активной колонизации примерно до рубежа 45-50 тысяч лет тому назад, тогда как Австралия, лежавшая на другом конце света, напротив, интенсивно заселялась задолго до этой рубежной эпохи. А это означает, что для того, чтобы «зарезервировать» северный маршрут исхода только за предками европейцев, Крис Стрингер, Боб Фоули и Марта Лар должны были принять гипотезу о существовании в древности отдельных южных маршрутов, которыми воспользовались предки австралийцев и даже жителей Азии. Решить эту загадку позволяет только изучение генетической истории.
Что же говорят гены о северном маршруте исхода
Все подобные гипотезы и предположения в прошлом базировались на археологических свидетельствах, состоявших из нескольких человеческих костей, датировка которых вызывала серьезные сомнения, и к тому же разделенных огромной паузой во времени. На рубеже тысячелетия вышел в свет обширный труд таких видных ученых, как Мартин Ричардс, Винсент Маколей и Ханс-Юрген Бандельт, посвященный генетическому отслеживанию корней современных европейцев. Этот труд полностью изменил прежние представления и позволил нам проанализировать маршрут и последствия первого исхода из Африки с гораздо более высокой точностью в пространственных и временных координатах. Данное исследование решает одновременно две задачи.
Во-первых, оно подтверждает, что наиболее ранняя «экспедиция» на Левант, имевшая место предположительно около 100 тысяч лет тому назад, канула в вечность, не оставив никаких следов. Точно так же все участники и потомки первого крупного исхода людей современного типа вымерли, как и неандертальцы, около 60 тысяч лет назад, не оставив никаких генетических следов на Леванте.
Во-вторых, хотя африканцы, жившие в окрестностях Сахары, оставили свои генные маркеры в генах примерно 1/8 части жителей современных общин берберов, пока что не обнаружено никаких генетических свидетельств того, что предки европейцев и жителей Леванта были выходцами из Северной Африки.
Откуда мне это известно? Дело в том, что реконструкция достаточно точного генетического древа при помощи митохондриевой ДНК позволяет достичь куда большего, чем просто идентифицировать наших общих древнейших предков. На рис. 1.4 представлено митохондриевое древо, основанием ствола которого послужили многочисленные африканские кланы. Одна из ветвей этого древа (L3) протянулась очень и очень далеко, в Южную Азию (Индию). Именно от ветви L3 произошла наша азиатская Ева выходцев из Африки, многочисленные ветви-потомки которой заселили Аравию и Индию, а затем Европу и Ближний Восток. Мы можем датировать ветви на этом древе, а затем, проанализировав их географическое распределение, показать, где и когда появлялись на свет родоначальники тех или иных доисторических миграций. По большому счету, этот метод можно считать убедительным доказательством правоты гипотезы о исходе из Африки.
Благодаря этому методу мы можем проследить, что древнейшая ветвь предков европейцев, обозначенная на схеме U (ее возраст - около 50 тысяч лет; см. рис. 1.4), которой я дал имя Европа - в честь знаменитой возлюбленной Зевса, возникла и сформировалась где-то неподалеку от Индии, отделившись от ветви R, которую я назвал Рохани - по ее локусу в Индии. В свою очередь, R отделилась от ветви N, которой я дал имя Насрин и которая отделилась от ветви L3 - ветви азиатской Евы выходцев из Африки.

Если предки европейцев действительно были потомками неких аборигенных этнических групп из Северной Африки, таких, как берберы, и отделились от них около 45 тысяч лет назад, мы вправе надеяться отыскать древнейшие североафриканские генетические линии, отходящие прямо от основания ветви L3.
Однако, если взглянуть на представителей Северной Африки, в частности - тех же берберов, которые, как считается, являются исконным аборигенным населением этого региона, мы видим прямо противоположное. Оказывается, генетические ветви жителей Северной Африки показывают, что перед нами - либо позднейшие иммигранты из других регионов, либо потомки ветвей, очень далеко отстоящих от L3. Но в Северной Африке не обнаружено никаких следов представителей ветвей, совершивших первый исход из Африки - Насрин и Рохани. Зато представителей этих ветвей можно встретить в Индии (см. рис.). Действительно, мы видим, что Северная Африка активно заселялась этническими группами мигрантов с юга, имеющих генетические линии, типичные для предков европейцев и жителей Леванта. Древнейшая аборигенная генетическая линия мтДНК в Северной Африке, иногда отождествляемая с берберами, датируется периодом их прибытия с Леванта, что произошло около 30 тысяч лет назад. Эта линия образует отдельную подветвь (U6 - см. рис.) клана предков европейцев и жителей Западной Евразии (Западная Евразия - термин, обозначающий Европу и страны Леванта). На ветви U6 четко видны свидетельства исхода из Леванта или Европы, а не какого-либо окружного пути. Примерно 1/8 материнских генетических линий в Северной Африке восходит к потомкам позднейших миграций из глубинных районов Африки в окрестностях Сахары, и более половины из них - следы еще более поздних переселений народов на юг, преимущественно из Европы. Наконец, гены другого дочернего клана Евы выходцев из Африки, азиатской супергруппы М, представители которой сосредоточены в Индии, полностью отсутствуют в Европе, на Леванте и в Северной Африке. Поэтому крайне маловероятно, что Северная Африка могла послужить источником генетического материала для жителей Азии, как то утверждает схема, предложенная Джонатаном Кингдоном.
Все сказанное является аргументом в поддержку точки зрения о том, что Европа и Северная Африка являлись реципиентами (восприемниками) миграций с востока. Другими словами, у нас нет доказательств в пользу того, что первый северный исход был направлен из окрестностей Сахары в Северную Африку. Он скорее происходил в обратном направлении. А теперь давайте кратко рассмотрим, как и где именно на Востоке возникли и сформировались ветви под условными названиями «Насрин», «Рохани» и «Европа».
Исход был только один
Наиболее убедительный аргумент против того, что основной маршрут, по которому предки европейцев и прочих рас современных людей совершили исход с Черного континента, пролегал по Северу Африки, - это структура материнского генетического древа всех народов мира. Как показано на рис. 1.4, лишь весьма и весьма небольшой побег одной из ветвей (Ева выходцев из Африки), объединивший около полудюжины основных материнских кланов Африки, сумел выжить после того, как его представители покинули родной континент, чтобы расселиться по всему остальному миру. Именно от этой малочисленной группы и произошли впоследствии все современные расы, обитающие в мире за пределами Африки. Совершенно ясно, что если имел место только один исход, то его участники должны были избрать какой-то один из двух возможных маршрутов, по которым можно было покинуть Африку. Я лично придаю особую важность тому простому и вместе с тем уникальному факту, что в генах всех неафриканских рас и народов на нашей планете прослеживается одна-единственная африканская генетическая линия.
В рамках любого исхода из Африки могла присутствовать смесь генетических линий Евы, восходящих к различным потенциальным основоположникам. То же самое можно сказать и о любой произвольно собранной группе людей. И тем не менее выжить смогла только одна из этих генетических линий. Этот факт позволяет допустить, сколько попыток отдельных групп совершить исход из Африки могли оказаться успешными. Допустим, изначально существовало пятнадцать различных в генетическом отношении типов или линий мтДНК, которые покинули Африку в составе группы мигрантов (их могло быть и больше, и меньше; см. рис. 1.5). Это число вполне реалистично; даже в наши дни существует именно пятнадцать материнских генетических линий, возраст которых превышает 80 тысяч лет.

Эти линии можно представить в виде пятнадцати типов мраморных камешков, оказавшихся в одном мешочке. Из этих пятнадцати линий только одна, митохондриевая ветвь, спустя много поколений превратилась в Еву выходцев из Африки, то есть общую «материнскую линию» для всего остального человечества. Другими словами, уцелел всего один камешек, представляющий только один тип мрамора. Этот произвольный процесс отбора и вымирания получил название дрейфа генов, потому что первичное смешение линий как бы совершило «дрейф» в сторону одного-единственного генетического типа.
Механизм, лежащий в основе дрейфа генов, достаточно прост. Время от времени некоторые материнские генетические линии отмирают, поскольку в них не остается дочерей, способных произвести на свет жизнеспособное потомство. Такое угасание и вымирание генетических линий показано на рис. 1.5. В пределах небольших изолированных этнических групп это со временем приводит к преобладанию какой-либо одной наследственной линии. В небольших группах дрейф играет огромную, решающую роль. Любопытный современный пример дрейфа генов, наблюдаемый, правда, по отцовской линии: в небольших, почти изолированных от внешнего мира, альпийских или валлийских горных деревушках через несколько поколений почти все жители оказываются обладателями одной и той же фамилии - скажем, Шмидт или Эванс - независимо от того, чем занимаются их сегодняшние носители.
На юго-востоке Аравийского полуострова обнаружены каменные орудия, изготовленные от 95 до 127 тысяч лет назад. Сходство этих орудий с изделиями людей современного типа, живших в то время в северо-восточной Африке, указывает на возможность очень раннего выхода сапиенсов из африканской прародины «южным путем», то есть через Баб-эль-Мандебский пролив и далее вдоль южного побережья Азии. Возможно, сапиенсы перебрались через пролив в начале последнего межледниковья (около 130 тысяч лет назад), когда уровень моря был на 100 метров ниже, чем теперь, а климат в южной Аравии ненадолго стал благоприятным для палеолитических охотников.
Судя по генетическим данным, современное внеафриканское человечество в основном происходит от небольшой популяции выходцев из Африки. «В основном» - потому что, как показали прошлогодние открытия в области палеогеномики, наши африканские предки в процессе своего расселения по Евразии всё-таки скрещивались как минимум с двумя популяциями евразийских аборигенов - неандертальцами и загадочными денисовцами (см.: Прочтен ядерный геном человека из Денисовой пещеры , «Элементы», 23.12.2010). Гибридизация с неандертальцами произошла вскоре после выхода из Африки и еще до того, как сапиенсы начали заселять обширные просторы Евразии. Поэтому неандертальские гены есть у всех современных евразийцев примерно в одинаковом количестве (около 2,5%). «Денисовские» гены есть только у меланезийцев. Это значит, что скрещивались с денисовцами лишь отдельные группы сапиенсов, потомки которых впоследствии осели в Новой Гвинее и на островах к востоку от нее.
До сих пор, однако, остается неясным время и маршрут выхода сапиенсов из африканской прародины. Генетические данные не позволяют датировать это событие со сколько-нибудь приемлемой точностью. Археологические данные тоже, к сожалению, довольно сомнительны.
Древнейшими свидетельствами присутствия «анатомически современных людей» за пределами Африки считаются находки в пещерах Схул и Кафзех на севере Израиля. Там обнаружены скелеты людей современного типа, хотя и с некоторыми архаичными чертами, сближающими их с древнейшими сапиенсами из Эфиопии (см.: 195 000 лет назад в Эфиопии жили «анатомически современные» люди , «Элементы», 24.09.2008). Возраст костей сапиенсов из пещер Схул и Кафзех - 119±18 и 81±13 тысяч лет. Это примерно совпадает с последним межледниковьем, когда климат на Ближнем Востоке был относительно теплым и влажным. До начала этой теплой эпохи в данном районе проживали привычные к холоду неандертальцы. Скорее всего, чтобы попасть в Палестину, сапиенсы пересекли засушливые районы Северной Африки по «Нильскому коридору». Но этот первый исход из Африки, похоже, не имел далеко идущих последствий, потому что в период между 65 и 47 тысячами лет назад в тех же пещерах регистрируется присутствие уже не сапиенсов, а снова неандертальцев. Возможно, неандертальцы пришли сюда с севера в связи с похолоданием и оттеснили теплолюбивых сапиенсов обратно в Африку.
Многие эксперты полагают, что современное внеафриканское человечество в основном происходит не от той популяции, которая проникла в Азию «северным путем» по Нильскому коридору около 120 тысяч лет назад, а от другой группы выходцев из Африки, которая покинула родной материк «южным путем», то есть перебралась через Баб-эль-Мандебский пролив в Южную Аравию и затем расселялась вдоль побережья Индийского океана на восток.
Хронология этого второго исхода из Африки остается дискуссионной и опирается в основном на косвенные данные. Некоторые эксперты полагают, что он состоялся около 85 тысяч лет назад, и уже вскоре после этого сапиенсы добрались до Индонезии и южного Китая. Эта версия представлена в интерактивной презентации «The journey of mankind» , основанной на трудах профессора Стивена Оппенхеймера (Stephen Oppenheimer) из Оксфордского университета.
Однако бесспорные следы присутствия сапиенсов в южной и юго-восточной Азии начинаются лишь примерно с 60 тысяч лет назад (50 тысяч лет назад сапиенсы уже проникли в Австралию). Целый ряд археологических находок, подтверждая косвенные данные генетики, указывает на более раннее (начиная примерно с 80 тысяч лет назад) присутствие людей на южном побережье Азии. Но как доказать, что это именно сапиенсы, а не какие-нибудь денисовцы или иные потомки более древних мигрантов из Африки? Ведь находят, как правило, только каменные орудия. Например, на юге Индостана непосредственно под толстым слоем вулканического пепла, оставленного грандиозным извержением вулкана Тоба 74 тысячи лет назад, обнаружены среднепалеолитические каменные орудия, сходные с африканским среднекаменным веком (Petraglia M., Korisettar R., Boivin N., et al. 2007. Middle Paleolithic Assemblages from the Indian Subcontinent Before and After the Toba Super-Eruption // Science . V. 317. P. 114–116). Самое удивительное, что точно такие же орудия присутствуют и непосредственно над слоем пепла! Получается, что древние индийцы сумели пережить катастрофу: отсиделись где-то, а потом как ни в чём не бывало продолжили заниматься своими делами на старом месте. С точки зрения некоторых экспертов, такая жизнестойкость является важным аргументом в пользу того, что это были именно сапиенсы.
В последнем номере журнала Science опубликованы новые археологические данные, подтверждающие очень ранний выход сапиенсов из Африки «южным путем». К сожалению, человеческих костей по-прежнему нет: речь снова идет лишь о каменных орудиях, но всё-таки эта находка значительно повышает достоверность реконструкций Оппенхеймера и его единомышленников и даже позволяет привязать пересечение Баб-эль-Мандеба к еще более ранней дате.
Международная команда археологов из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Украины и Германии сообщила о результатах раскопок палеолитической стоянки, расположенной на юго-востоке Аравийского полуострова, неподалеку от Ормузского пролива (соединяющего Персидский залив с океаном). Древние люди жили в небольшом гроте у подножия каменистой возвышенности Джебель-Файя (Jebel Faya). Каменная кровля грота к настоящему времени обвалилась. Раскопки в Джебель-Файя проводились в 2003–2010 годах. Сверху залегают культурные слои Железного и Бронзового веков, под ними - неолитический слой, затем идет чистый песок без признаков присутствия человека, а еще ниже находятся три среднепалеолитических слоя: A, B и C. На самом деле есть еще четвертый слой D, самый древний, но о нём авторы ничего конкретного не сообщают: не успели как следует изучить.

Наибольшее внимание в статье уделено слою C. Его возраст, по результатам оптико-люминесцентного датирования, составляет от 127±16 до 95±13 тысяч лет. Самое главное, что каменные орудия из этого слоя как по своей «типологии» (форме, размерам, соотношению орудий разных типов и другим формальным признакам), так и по технологиям обработки камня очень похожи на изделия, производившиеся в это время сапиенсами Восточной Африки. В Леванте, где селились то сапиенсы, то неандертальцы, каменная индустрия в те времена сильно отличалась от того, что найдено в слое C в Джебель-Файя.

Слой C без перерыва переходит в B, о возрасте которого в статье не сообщается (наверное, не смогли определить). Затем после перерыва (представляющего собой слой песка без орудий) идет слой А возрастом 38–40 тысяч лет. Еще выше - опять чистый песок, продолжающийся вплоть до появления неолитических орудий возрастом 10–9 тысяч лет. Каменные изделия слоев B и A - среднепалеолитические, похожие на орудия из слоя C, но отличающиеся от того, что находят на других ближневосточных и африканских стоянках тех времен.
Эти данные в переводе с археологического языка означают примерно следующее. По-видимому, сапиенсы впервые появились в Джебель-Файя в начале последнего (Рисс-Вюрмского) межледниковья, около 130–125 тысяч лет назад. Это был на редкость удобный момент для преодоления Баб-эль-Мандебского пролива и миграции вдоль южного побережья Аравии. Вплоть до примерно 130 тысяч лет назад, пока длилось предпоследнее (Рисское) оледенение, уровень моря был очень низким - на 100 метров ниже, чем сейчас. Пересечь сузившийся и обмелевший пролив можно было и раньше, однако до тех пор, пока не началось глобальное потепление, климат в южной Аравии был слишком засушлив, чтобы люди могли здесь долго продержаться. Потом, когда климат улучшился, уровень моря поднялся, и пролив расширился. Однако в самом начале межледниковья, по-видимому, был краткий период, когда море еще не успело подняться, а климат в южной Аравии уже стал благоприятным для людей. Это видно на рисунке: кривая уровня моря (G) около 130 тысяч лет назад еще не начала подниматься, а влажный период, обозначенный серой вертикальной полосой, уже начался.

Не исключено, что часть южноаравийской популяции сапиенсов двинулась дальше на восток и дала начало всему внеафриканскому человечеству. Может быть, они успели пересечь и Ормузский пролив до подъема уровня моря (собственно, в то время пролива там не было, Персидский залив был сушей, нужно было пересечь только большую реку, образованную слиянием Тигра и Евфрата). О том, каким образом в их генофонд попали неандертальские гены, пока можно лишь гадать: возможно, были какие-то древние миграции между южной Аравией и Левантом. Так или иначе, на восток ушли не все. Об этом свидетельствуют палеолитические слои B и А. Люди, оставившие каменные орудия в этих слоях, по-видимому, жили в Джебель-Файя уже в относительной изоляции, потому что никакие технологические новшества, в том числе верхнепалеолитические технологии, к ним не проникали ни из Африки, ни из Леванта. Они сохраняли разнообразные приемы обработки камня, характерные для слоя С и африканского среднекаменного века, но кое-что, видимо, позабыли: в слоях B и А отсутствуют орудия, изготовленные при помощи леваллуазской технологии, хорошо знакомой людям слоя С (а также другим среднепалеолитическим сапиенсам и неандертальцам).
Тем временем по мере развития последнего, Вюрмского, оледенения климат в Аравии становился все более засушливым. 40 тысяч лет назад процесс зашел слишком далеко, территория опустынилась, и люди исчезли из этого района вплоть до начала следующего (нынешнего) межледниковья. Лишь около 10 тысяч лет назад здесь снова появилось население, но это уже были обладатели совсем другой, несравненно более высокой неолитической культуры. Впрочем, если все эти увлекательные теории верны, неолитические пришельцы (как и все мы, внеафриканские сапиенсы) должны быть потомками древнейших обитателей южной Аравии.

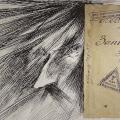 Записки сумасшедшего, главный герой, сюжет, история создания
Записки сумасшедшего, главный герой, сюжет, история создания Почему александр невский стал другом татарского хана и заключил союз с ордой Невский сын батыя
Почему александр невский стал другом татарского хана и заключил союз с ордой Невский сын батыя Воспоминания барнаульских ликвидаторов аварии на чернобыльской аэс
Воспоминания барнаульских ликвидаторов аварии на чернобыльской аэс