Поднятая шолохов. «Поднятая целина» Михаил Шолохов
События в книге М.А. Шолохова «Поднятая целина» происходят в казачьей станице Гремячий Лог в тридцатых годах. Это время для всей страны было переломным моментом, когда трудовое крестьянство должно было отказаться от собственных мелких владений и перейти к коллективному хозяйству. Тема коллективизации стала центральной темой произведения. Андрей Разметнов, Семен Давыдов и Макар Нагульнов – главные персонажи романа. Их образы порождены самой эпохой.
Семен Давыдов по поручению партии приезжает в Гремячий Лог с целью создание колхоза. Он свято верит в идеи социализма. Давыдов почти не разбирается в сельском хозяйстве, но все-таки на позиции лидера поучает казаков, насильно заставляет их вступать в колхоз, яростно борется с кулаками. Однако он делает вывод, что коллективизация ошибочна по своей природе, ведь все преобразования происходят помимо воли народа. В этом и неудача коллективизации. В конце романа Давыдов, как и Нагульнов, умирает от руки белогвардейца, подтверждая несостоятельность этой идеи.
Макар Нагульнов – секретарь гремячинской партийной ячейки, преданный соратник Давыдова. Мечта этого героя – мировая революция. Становление колхоза для него – главная цель. У Нагульнова недостаточно жизненного опыта, он политически малограмотен, обладает горячим нравом, этим и объясняются его промахи. Но в душе этот человек романтик, несмотря на его аскетизм и, доходящий порой до крайностей, фанатизм.
Андрей Разметнов занимает должность председателя сельсовета в станице. Судьба Андрея трагична: его жена покончила с собой из-за бесчинств белогвардейцев. Разметнов способен на жалость к другим, в отличие от Нагульнова, он обладает человечностью. Андрей не одобряет все то, что делает Нагульнов против казаков. Он – рассудительный и уравновешенный человек. Коммунист Разметнов однажды участвует в раскулачивании, но потом решает больше не содействовать коллективизации.
Главным героем в «Поднятой целине» можно считать и сам русский народ в то трудное для него время, когда партия пыталась сломить массовое сознание и создать нового человека. В романе изображены кровавые сцены раскулачивания, когда жители деревни забивали свой скот, лишь бы не отдавать его в чужие руки. Русскому человеку тяжело было отречься от старых традиций, отказ от них сопровождался глубоким душевным страданием.
В «Поднятой целине» Шолохов изобразил индивидуальные характеры, которые приветствовали коллективизацию. Это образы Демида Молчуна – обездоленного человека, Демки Ушакова, у которого целая ватага голодных детей, Кондрата Майданникова – крестьянина, своим трудом ставшего середняком. Образ Майданникова демонстрирует в романе движение крестьянства к взаимодействию с советской властью: ему жаль отдавать свою скотину, однако он все-таки вступает в колхоз и становится членом партии.
Лагерь врагов коллективизации возглавляет в «Поднятой целине» Александр Анисимович Половцев. Действие романа начинается с его приезда в Гремячий Лог. Это человек грамотный, отрицающий политику партии. Автор ему, как и Давыдову, симпатизирует: Александру не чужды человеческие чувства, он жалеет щенка, которого засек в детстве. Половцев делает союзником в борьбе против коллективизации донского агронома Якова Островского, бывшего своего сослуживца. Под влиянием Якова Лукича Островского в станице происходит «бабий бунт».
Противники коллективизации
Противниками коренного переустройства в романе выступают Лятьевский, Лапшинов, Тит Бородин. Образ Тата Бородина сложен. Раньше он был беден, воевал против белых. Сейчас он стал кулаком, врагом советской власти. Бородин, веривший прежде в идеалы революции, теперь стал ее противником.
Хотя в «Поднятой целине» изображены драматические событие, но повествование не лишено юмористической окраски. Смешное здесь сочетается с трагическим. Юмор автора прослеживается в образе балагура и весельчака деда Щукаря. Дед часто попадает в разные ситуации, он любит похвастаться. Щукарь – плут, но его все любят в станице за простодушие и житейскую мудрость.
 Формирование нового строя, проблема коллективизации на Дону – вот главная идея «Поднятой целины». В 1932 году была закончена первая книга тома, ранее имевшая название «С потом и кровью», а в 1959 – вторая книга. «Поднятая целина» (краткое содержание или весь роман в целом) позволяет читателю узнать многое о тяжелой жизни донского казачества того времени. Шолохова волнует истинная судьба народных масс во время коллективизации.
Формирование нового строя, проблема коллективизации на Дону – вот главная идея «Поднятой целины». В 1932 году была закончена первая книга тома, ранее имевшая название «С потом и кровью», а в 1959 – вторая книга. «Поднятая целина» (краткое содержание или весь роман в целом) позволяет читателю узнать многое о тяжелой жизни донского казачества того времени. Шолохова волнует истинная судьба народных масс во время коллективизации.
Идейным центром романа становится противостояние двух полярных групп – группы сторонников социализма и группы контрреволюции. Это противоборство отражено в самом начале романа, когда в Гремячий Лог прибывают двое – офицер Белой гвардии Половцев и рабочий Путиловского завода Давыдов. Цель Давыдова – организовать коллективное хозяйство, задача Половцева – помешать этому.
Основные действующие герои романа объединяются вокруг Давыдова и Половцева. С большим воодушевлением берутся за строительство новой колхозной жизни: коммунисты Разметнов и Нагульнов, агитатор Ваня Найденов, Кондрат Майданников, Ипполит Шалый. Направляет их работу Семен Давыдов. Помешать коллективизации в романе пытаются кулаки: Лапшинов, Островнов, Бородин, Тимофей Рваный, Фрол и их предводитель Половцев. Строить новую жизнь в станице коммунисты были вынуждены не только в борьбе с кулаками. Им требовалось изменить народное сознание, внушить крестьянству, что «свое собственное» уже отжило, теперь «все общее».
Анализ произведения
В XX веке было создано много произведений о коллективизации («Впрок» А.П. Платонова, «Бруски» Ф.И. Панферова, «Девки» Н.И. Кочина и др.), но такой полной и глубокой картины крестьянской жизни, как в «Поднятой целине», нет ни в одном.
Шолохов в романе правдиво показал время революционных преобразований на Дону: сложные процессы становления новых общественных отношений, героизм предводителей коммунистической партии, погибших во имя блага трудового народа. В «Поднятой целине» достоверно изображены картины коллективизации деревни, хотя некоторые критики считают, что произведение было написано по соцзаказу, поэтому автор о чем-то умолчал. Шолохов доподлинно знал, как именно проводилась коллективизация в деревне из писем, которые он получал от крестьян, и ничего не утаил в романе.
Еще один известный роман Михаило Шолохова
По крайнему к степи проулку январским вечером 1930 г. въехал в хутор Гремячий Лог верховой. У прохожих спросил дорогу к куреню Якова Лукича Островнова. Хозяин, узнав приезжего, оглянулся и зашептал: «Ваше благородие! Откель вас?.. Господин есаул...» Это был бывший командир Островнова в первой мировой и гражданской войнах Половцев. Поужинав, стали толковать. Лукич считался на хуторе первостатейным хозяином, человеком большого ума и лисьей осторожности. Приезжему стал жаловаться: в двадцатом году вернулся к голым стенам, все добро оставил у Чёрного моря. Работал день и ночь. Новая власть в первый же год вымела по продразвёрстке все зерно вчистую, а потом и счёт потерял сдачам: сдавал и хлеб, и мясо, и масло, и кожу, и птицу, платил несчётно налогов... Теперь - новая напасть. Приехал из района какой-то человек и будет всех сгонять в колхоз. Наживал своим горбом, а теперь отдай в общий котёл? «Бороться надо, братец», - объясняет Половцев. И по его предложению Яков Лукич вступает в «Союз освобождения родного Дона».
А тот человек, о котором они толковали, в прошлом матрос, а потом слесарь Путиловского завода Семен Давыдов, приехал в Гремячий проводить коллективизацию. Вначале созвал собрание гремяченского актива и бедноты. Присутствовавшие записались в колхоз дружно и утвердили список кулаков: попавших в него ждала конфискация имущества и выселение из жилья. При обсуждении кандидатуры Тита Бородина возникла заминка. Секретарь хуторской ячейки компартии Макар Нагульнов, в прошлом красный партизан, объяснил Давыдову: Тит - бывший красногвардеец, из бедноты. Но, вернувшись с войны, зубами вцепился в хозяйство. Работал по двадцать часов в сутки, оброс дикой шерстью, приобрёл грыжу - и начал богатеть, несмотря на предупреждения и уговоры дожидаться мировой революции. Уговорщикам отвечал: «Я был ничем и стал всем, за это и воевал».
«Был партизан - честь ему за это, кулаком сделался - раздавить», - ответил Давыдов. На следующий день, под слезы выселяемых детей и женщин, прошло раскулачивание. Председатель гремяченского сельсовета Андрей Разметнов вначале даже отказался принимать в этом участие, но был переубеждён Давыдовым.
Гремяченцы позажиточней в колхоз стремились не все. Недовольные властью тайно собирались обсудить положение. Среди них были и середняки, и даже кое-кто из бедноты, Никита Хопров, например, которого шантажировали тем, что он какое-то время был в карательном отряде белых. Но на предложение Островнова участвовать в вооружённом восстании Хопров ответил отказом. Лучше он сам на себя донесёт. Да кстати, кто это живёт у Лукича в мякиннике - не тот ли «ваше благородие», который и подбивает на мятеж? Той же ночью Хопрова и его жену убили. Участвовали в этом Островнов, Половцев и сын раскулаченного, первый деревенский красавец и гармонист Тимофей Рваный. Следователю из района не удалось заполучить нити, ведущие к раскрытию убийства.
Неделю спустя общее собрание колхозников утвердило председателем колхоза приезжего Давыдова, а завхозом - Островнова. Коллективизация в Гремячем шла трудно: вначале подчистую резали скот, чтоб не обобществлять его, затем укрывали от сдачи семенное зерно.
Партсекретарь Нагульнов развёлся с женой Лукерьей из-за того, что прилюдно голосила по высылаемому Тимофею Рваному, своему возлюбленному. А вскоре известная своей ветреностью Лушка встретила Давыдова и сказала ему: «Вы посмотрите на меня, товарищ Давыдов... я женщина красивая, на любовь дюже гожая...»
Половцев и Яков Лукич сообщили единомышленникам с соседнего хутора, что восстание назначено на послезавтра. Но те, оказывается, изменили намерения, прочитав статью Сталина «Головокружение от успехов». Думали, что всех загонять в колхоз - приказ центра. А Сталин заявил, что «можно сидеть и в своей единоличности». Так что с местным начальством, жёстко гнувшим на коллективизацию, они поладят, «а завернуть противу всей советской власти» негоже. «Дураки, Богом прокляты!.. - кипел Половцев. - Они не понимают, что эта статья - гнусный обман, маневр!» А в Гремячем за неделю после появления статьи было подано около ста заявлений о выходе из колхоза. В том числе и от вдовой Марины Поярковой, «любушки» предсельсовета Андрея Размёт-нова. А полчаса спустя Марина, самолично впрягшись в оглобли своей повозки, легко увезла борону и запашник со двора бригады.
Отношения народа и власти снова обострились. А тут ещё приехали подводы из хутора Ярского и прошёл слух, что за семенным зерном. И в Гремячем вспыхнул бунт: избили Давыдова, сшибли замки с амбаров и стали самочинно разбирать зерно. После подавления бунта Давыдов пообещал ко «временно заблужден-ным» административных мер не применять.
К 15 мая колхоз в Гремячем посевной план выполнил. А к Давыдову стала захаживать Лушка: газетки брала да интересовалась, не соскучился ли по ней председатель. Сопротивление бывшего флотского было недолгим, и скоро об их связи узнала вся станица.
Островнов встретил в лесу сбежавшего из ссылки Тимофея Рваного. Тот велел передать Лукерье, что ждёт харчей. А дома Лукича ждала неприятность несравненно более горшая: вернулся Половцев и вместе со своим товарищем Лятьевским поселился у Островнова на тайное жительство.
Давыдов, мучаясь тем, что отношения с Лушкой подрывают его авторитет, предложил ей пожениться. Неожиданно это привело к жестокой ссоре. В разлуке председатель затосковал, поручил дела Разметнову, а сам отъехал во вторую бригаду подсоблять поднимать пары. В бригаде постоянно зубоскалили по поводу непомерной толщины стряпухи Дарьи. С приездом Давыдова появилась ещё тема для грубоватых шуток - влюблённость в него юной Вари Харламовой. Сам же он, глядя в ее полыхающее румянцем лицо, думал: «Ведь я вдвое старше тебя, израненный, некрасивый, щербатый... Нет... расти без меня, милая».
Как-то перед восходом солнца к стану подъехал верховой. Пошутил с Дарьей, помог ей почистить картошку, а потом велел будить Давыдова. Это был новый секретарь райкома Нестеренко. Он проверил качество пахоты, потолковал о колхозных делах, в которых оказался весьма сведущ, и покритиковал председателя за упущения. Моряк и сам собирался на хутор: ему стало известно, что накануне вечером в Макара стреляли.
В Гремячем Разметнов изложил подробности покушения: ночью Макар сидел у открытого окна со своим новоявленным приятелем шутником и балагуром дедом Щукарем, «по нему и урезали из винтовки». Утром по гильзе определили, что стрелял человек невоевавший: солдат с тридцати шагов не промахнётся. Да и убегал стрелок так, что конному не догнать. Выстрел не причинил партийному секретарю никаких увечий, но у него открылся страшный насморк, слышный на весь хутор.
Давыдов отправился на кузню осматривать отремонтированный к севу инвентарь. Кузнец Ипполит Шалый в беседе предупредил председателя, чтоб бросал Лукерью, иначе тоже получит пулю в лоб. Лушка-то не с ним одним узлы вяжет. И без того непонятно, почему Тимошка Рваный (а именно он оказался незадачливым стрелком) стрелял в Макара, а не в Давыдова.
Вечером Давыдов рассказал о разговоре Макару и Разметнову, предложил сообщить в ГПУ. Макар решительно воспротивился: стоит гэпэушнику появиться на хуторе, Тимофей тут же исчезнет. Макар самолично устроил засаду у дома своей «предбывшей» жены (Лушку на это время посадили под замок) и на третьи сутки убил появившегося Тимофея с первого выстрела. Лукерье дал возможность попрощаться с убитым и отпустил.
В Гремячем тем временем появились новые люди: два ражих заготовителя скота. Но Разметнов задержал их, заметив, что и ручки у приезжих белые, и лица не деревенские. Тут «заготовители» предъявили документы сотрудников краевого управления ОГПУ и рассказали, что ищут опасного врага, есаула белой армии Половцева, и профессиональное чутье подсказывает им, что он прячется в Гремячем.
После очередного партсобрания Давыдова подкараулила Варя, чтоб сказать: мать хочет выдать ее замуж, сама же она любит его, дурака слепого. Давыдов после бессонных раздумий решил осенью на ней жениться. А пока отправил учиться на агронома.
Через два дня на дороге были убиты два заготовителя. Разметнов, Нагульнов и Давыдов сразу же установили наблюдение за домами тех, у кого покупали скот. Слежка вывела на дом Островнова. План захвата предложил Макар: они с Давыдовым врываются в дверь, а Андрей заляжет во дворе под окном. После недолгих переговоров им открыл сам хозяин. Макар ударом ноги вышиб запертую на задвижку дверь, но выстрелить не успел. Возле порога полыхнул взрыв ручной гранаты, а следом загремел пулемёт. Нагульнов, изуродованный осколками, погиб мгновенно, а Давыдов, попавший под пулемётную очередь, умер на следующую ночь.
Вот и отпели донские соловьи Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка... В убитом Разметновым человеке сотрудники ОГПУ опознали Лятьевского. Половцева взяли через три недели недалеко от Ташкента. После этого по краю широкой волной прокатились аресты. Всего было обезврежено более шестисот участников заговора.
Михаил Шолохов
ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА
КНИГА ПЕРВАЯ
В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли.
Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над садами до голубых потемок, до поры, пока не просунется сквозь голызины ветвей крытый прозеленью рог месяца, пока не кинут на снег жирующие зайцы опушенных крапин следов…
А потом ветер принесет в сады со степного гребня тончайшее дыхание опаленной морозами полыни, заглохнут дневные запахи и звуки, и по чернобылу, по бурьянам, по выцветшей на стернях брице, по волнистым буграм зяби неслышно, серой волчицей придет с востока ночь, - как следы, оставляя за собой по степи выволочки сумеречных теней.
По крайнему в степи проулку январским вечером 1930 года Въехал в хутор Гремячий Лог верховой. Возле речки он остановил усталого, курчаво заиневшего в пахах коня, спешился. Над чернью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых левад высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подвывала собака, желтел огонек. Всадник жадно хватнул ноздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил, потом подтянул подпругу, сунул пальцы под потник и, ощутив горячую, запотевшую конскую спину, ловко вскинул в седло свое большое тело. Мелкую, не замерзающую и зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устилавшим дно голышам, на ходу потянулся было пить, но всадник заторопил его, и конь, екая селезенкой, выскочил на пологий берег.
Заслышав встречь себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук торожко двинул ушами, повернулся. Серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули в темени проулка белым, разящим блеском. Верховой кинул на луку поводья, торопливо надел висевший до этого на плечах казачий башлык верблюжьей шерсти, закутал лицо и поскакал машистой рысью. Миновав подводу, он по-прежнему поехал шагом, но башлыка не снял.
Уж въехав в хутор, спросил у встречной женщины:
А ну, скажи, тетка, где тут у вас Яков Островнов живет?
Яков Лукич-то?
А вот за тополем его курень, крытый черепицей, видите?
Вижу. Спасибо.
Возле крытого черепицей просторного куреня спешился, ввел в калитку коня и, тихо стукнув в окно рукоятью плети, позвал:
Хозяин! Яков Лукич, выйди-ка на-час .
Без шапки, пиджак - внапашку, хозяин вышел на крыльцо; всматриваясь в приезжего, сошел с порожков.
Кого нелегкая принесла? - улыбаясь в седеющие усы, спросил он.
Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. Куда бы коня поставить в теплое?
Нет, дорогой товарищ, не призначу. Вы не из рика будете? Не из земотдела? Что-то угадываю… Голос ваш, сдается мне, будто знакомый…
Приезжий, морща бритые губы улыбкой, раздвинул башлык.
Половцева помнишь?
И Яков Лукич вдруг испуганно озирнулся по сторонам, побледнел, зашептал:
Ваше благородие! Откель вас?.. Господин есаул!.. Лошадку мы зараз определим… Мы в конюшню… Сколько лет-то минуло…
Ну-ну, ты потише! Времени много прошло… Попонка есть у тебя? В доме у тебя чужих никого нет?
Приезжий передал повод хозяину. Конь, лениво повинуясь движению чужой руки, высоко задирая голову на вытянутой шее и устало волоча задние ноги, пошел к конюшне. Он звонко стукнул копытом по деревянному настилу, всхрапнул, почуяв обжитый запах чужой лошади. Рука чужого человека легла на его храп, пальцы умело и бережно освободили натертые десны от пресного железа удил, и конь благодарно припал к сену.
Подпруги я ему отпустил, нехай постоит оседланный, а трошки охолонет - тогда расседлаю, - говорил хозяин, заботливо накидывая на коня нахолодавшую попонку. А сам, ощупав седловку, уже успел определить по тому, как была затянута чересподушечная подпруга, как до отказу свободно распущена соединяющая стременные ремни скошевка, что гость приехал издалека и за этот день сделал немалый пробег.
Зерно-то водится у тебя, Яков Лукич?
Чуток есть. Напоим, дадим зернеца. Ну, пойдемте в куреня, как вас теперича величать и не знаю… По-старому - отвык и вроде неудобно… - неловко улыбался в темноте хозяин, хотя и знал, что улыбка, его не видна.
Зови по имени-отчеству. Не забыл? - отвечал гость, первый выходя из конюшни.
Как можно! Всю германскую вместе сломали, и в эту пришлось… Я об вас часто вспоминал, Александр Анисимович. С энтих пор, как в Новороссийском расстрялись с вами, и слуху об вас не имели. Я так думал, что вы в Турцию с казаками уплыли.
Вошли в жарко натопленную кухню. Приезжий снял башлык и белого курпяя папаху, обнажив могучий угловатый череп, покрытый редким белесым волосом. Из-под крутого, волчьего склада, лысеющего лба он бегло оглядел комнату и, улыбчиво сощурив светло-голубые глазки, тяжко блестевшие из глубоких провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам - хозяйке и снохе.
Здорово живете, бабочки!
Слава богу, - сдержанно ответила ему хозяйка, выжидательно, вопрошающе глянув на мужа: «Что это, дескать, за человека ты привел и какое с ним нужно обхождение?»
Соберите повечерять, - коротко приказал хозяин, пригласив гостя в горницу к столу.
Гость, хлебая щи со свининой, в присутствии женщин вел разговор о погоде, о сослуживцах. Его огромная, будто из камня тесанная, нижняя челюсть трудно двигалась; жевал он медленно, устало, как приморенный бык на лежке. После ужина встал, помолился на образа в запыленных бумажных цветах и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил:
Спасибо за хлеб-соль, Яков Лукич! Теперь давай потолкуем.
Сноха и хозяйка торопливо приняли со стола; повинуясь движению бровей хозяина, ушли в кухню.
Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в движениях, присел к столу, искоса посмотрев на Давыдова, и, жмурясь, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать его документы.
За окном, в телефонных проводах, свистал ветер, на спине лошади, привязанной недоуздком к палисаднику, по самой кобаржине кособоко прогуливалась - и что-то клевала - сорока. Ветер заламывал ей хвост, поднимал на крыло, но она снова садилась на спину старчески изможденной, ко всему безучастной клячи, победно вела по сторонам хищным глазком. Над станцией низко летели рваные хлопья облаков. Изредка в просвет косо ниспадали солнечные лучи, вспыхивал - по-летнему синий - клочок неба, и тогда видневшийся из окна изгиб Дона, лес за ним и дальний перевал с крохотным ветряком на горизонте обретали волнующую мягкость рисунка.
Так ты задержался в Ростове по болезни? Ну, что ж… Остальные восемь двадцатипятитысячников приехали три дня назад. Митинг был. Представители колхозов их встречали. - Секретарь думающе пожевал губами. - Сейчас у нас особенно сложная обстановка. Процент коллективизации по району - четырнадцать и восемь десятых. Все больше ТОЗ . За кулацко-зажиточной частью еще остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Оч-чень! Колхозы посылали заявки на сорок три рабочих, а прислали вас только девять.
И из-под припухлых век как-то по-новому, пытливо и долго, посмотрел в зрачки Давыдову, словно оценивая, на что способен человек.
Так ты, дорогой товарищ, стало быть, слесарь? Оч-чень хорошо! А на Путиловском давно работаешь? Кури.
С демобилизации. Девять лет. - Давыдов протянул руку за папироской, и секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова тусклую синеву татуировки, улыбнулся краешками отвислых губ.
Краса и гордость? Во флоте был?
То-то вижу якорек у тебя…
Молодой был, знаешь… с зеленью и глупцой, вот и вытравил… - Давыдов досадливо потянул книзу рукав, думая: «Эка, глазастый ты на что не надо. А вот хлебозаготовки-то едва не просмотрел!»
Михаил Александрович Шолохов
Поднятая целина
Книга первая
В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли.
Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над садами до голубых потемок, до поры, пока не просунется сквозь голызины ветвей крытый прозеленью рог месяца, пока не кинут на снег жирующие зайцы опушенных крапин следов…
А потом ветер принесет в сады со степного гребня тончайшее дыхание опаленной морозами полыни, заглохнут дневные запахи и звуки, и по чернобылю, по бурьянам, по выцветшей на стернях брице, по волнистым буграм зяби неслышно, серой волчицей придет с востока ночь, – как следы, оставляя за собой по степи выволочки сумеречных теней.
* * *По крайнему в степи проулку январским вечером 1930 года въехал в хутор Гремячий Лог верховой. Возле речки он остановил усталого, курчаво заиневшего в пахах коня, спешился. Над чернью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых левад высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подвывала собака, желтел огонек. Всадник жадно хватнул ноздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил, потом подтянул подпругу, сунул пальцы под потник и, ощутив горячую, запотевшую конскую спину, ловко вскинул в седло свое большое тело. Мелкую, не замерзающую и зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устилавшим дно голышам, на ходу потянулся было пить, но всадник заторопил его, и конь, екая селезенкой, выскочил на пологий берег.
Заслышав встречь себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук сторожко двинул ушами, повернулся. Серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули в темени проулка белым, разящим блеском. Верховой кинул на луку поводья, торопливо надел висевший до этого на плечах казачий башлык верблюжьей шерсти, закутал лицо и поскакал машистой рысью. Миновав подводу, он по-прежнему поехал шагом, но башлыка не снял.
Уж въехав в хутор, спросил у встречной женщины:
– А ну, скажи, тетка, где тут у вас Яков Островнов живет?
– Яков Лукич-то?
– А вот за тополем его курень, крытый черепицей, видите?
– Вижу. Спасибо.
Возле крытого черепицей просторного куреня спешился, ввел в калитку коня и, тихо стукнув в окно рукоятью плети, позвал:
– Хозяин! Яков Лукич, выйди-ка на-час.
Без шапки, пиджак – внапашку, хозяин вышел на крыльцо; всматриваясь в приезжего, сошел с порожков.
– Кого нелегкая принесла? – улыбаясь в седеющие усы, спросил он.
– Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. Куда бы коня поставить в теплое?
– Нет, дорогой товарищ, не призначу. Вы не из рика будете? Не из земотдела? Что-то угадываю… Голос ваш, сдается мне, будто знакомый…
Приезжий, морща бритые губы улыбкой, раздвинул башлык.
– Полóвцева помнишь?
И Яков Лукич вдруг испуганно озирнулся по сторонам, побледнел, зашептал:
– Ваше благородие! Откель вас?.. Господин есаул!.. Лошадку мы зараз определим… Мы в конюшню… Сколько лет-то минуло…
– Ну-ну, ты потише! Времени много прошло… Попонка есть у тебя? В доме у тебя чужих никого нет?
Приезжий передал повод хозяину. Конь, лениво повинуясь движению чужой руки, высоко задирая голову на вытянутой шее и устало волоча задние ноги, пошел к конюшне. Он звонко стукнул копытом по деревянному настилу, всхрапнул, почуяв обжитый запах чужой лошади. Рука чужого человека легла на его храп, пальцы умело и бережно освободили натертые десны от пресного железа удил, и конь благодарно припал к сену.
– Подпруги я ему отпустил, нехай постоит оседланный, а трошки охолонет – тогда расседлаю, – говорил хозяин, заботливо накидывая на коня нахолодавшую попонку. А сам, ощупав седловку, уже успел определить по тому, как была затянута чересподушечная подпруга, как до отказу свободно распущена соединяющая стременные ремни скошевка, что гость приехал издалека и за этот день сделал немалый пробег.
– Зерно-то водится у тебя, Яков Лукич?
– Чуток есть. Напоим, дадим зернеца. Ну, пойдемте в куреня, как вас теперича величать и не знаю… По-старому – отвык и вроде неудобно… – неловко улыбался в темноте хозяин, хотя и знал, что улыбка его не видна.
– Зови по имени-отчеству. Не забыл? – отвечал гость, первый выходя из конюшни.
– Как можно! Всю германскую вместе сломали, и в эту пришлось… Я об вас часто вспоминал, Александр Анисимович. С энтих пор, как в Новороссийском расстрялись с вами, и слуху об вас не имели. Я так думал, что вы в Турцию с казаками уплыли.
Вошли в жарко натопленную кухню. Приезжий снял башлык и белого курпяя папаху, обнажив могучий угловатый череп, прикрытый редким белесым волосом. Из-под крутого, волчьего склада, лысеющего лба он бегло оглядел комнату и, улыбчиво сощурив светло-голубые глазки, тяжко блестевшие из глубоких провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам – хозяйке и снохе.
– Здорово живете, бабочки!
– Слава богу, – сдержанно ответила ему хозяйка, выжидательно, вопрошающе глянув на мужа: «Что это, дескать, за человека ты привел и какое с ним нужно обхождение?»
– Соберите повечерять, – коротко приказал хозяин, пригласив гостя в горницу к столу.
Гость, хлебая щи со свининой, в присутствии женщин вел разговор о погоде, о сослуживцах. Его огромная, будто из камня тесанная, нижняя челюсть трудно двигалась; жевал он медленно, устало, как приморенный бык на лежке. После ужина встал, помолился на образа в запыленных бумажных цветах и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил:
– Спасибо за хлеб-соль, Яков Лукич! Теперь давай потолкуем.
Сноха и хозяйка торопливо приняли со стола; повинуясь движению бровей хозяина, ушли в кухню.
Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в движениях, присел к столу, искоса посмотрев на Давыдова, и, жмурясь, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать его документы.
За окном, в телефонных проводах, свистал ветер, на спине лошади, привязанной недоуздком к палисаднику, по самой кобаржине кособоко прогуливалась – и что-то клевала – сорока. Ветер заламывал ей хвост, поднимал на крыло, но она снова садилась на спину старчески изможденной, ко всему безучастной клячи, победно вела по сторонам хищным глазком. Над станцией низко летели рваные хлопья облаков. Изредка в просвет косо ниспадали солнечные лучи, вспыхивал – по-летнему синий – клочок неба, и тогда видневшийся из окна изгиб Дона, лес за ним и дальний перевал с крохотным ветряком на горизонте обретали волнующую мягкость рисунка.
– Так ты задержался в Ростове по болезни? Ну, что ж… Остальные восемь двадцатипятитысячников приехали три дня назад. Митинг был. Представители колхозов их встречали. – Секретарь думающе пожевал губами. – Сейчас у нас особенно сложная обстановка. Процент коллективизации по району – четырнадцать и восемь десятых. Все больше ТОЗ. За кулацко-зажиточной частью еще остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Оч-чень! Колхозы посылали заявки на сорок трех рабочих, а прислали вас только девять.
И из-под припухлых век как-то по-новому, пытливо и долго, посмотрел в зрачки Давыдову, словно оценивая, на что способен человек.
– Так ты, дорогой товарищ, стало быть, слесарь? Оч-чень хорошо! А на Путиловском давно работаешь? Кури.
– С демобилизации. Девять лет. – Давыдов протянул руку за папироской, и секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова тусклую синеву татуировки, улыбнулся краешками отвислых губ.
– Краса и гордость? Во флоте был?
– То-то вижу якорек у тебя…
– Молодой был, знаешь… с зеленью и глупцой, вот и вытравил… – Давыдов досадливо потянул книзу рукав, думая: «Эка, глазастый ты на что не надо. А вот хлебозаготовки-то едва не просмотрел!»
Секретарь помолчал и как-то сразу согнал со своего болезненно одутловатого лица ничего не значащую улыбку гостеприимства.
Роман Михаила Шолохова «Поднятая целина» является одним из первых произведений, рассказывающих об установлении власти Советов рабочих и крестьян на донских землях.
Описываемые в романе события имеют место в период, охватывающий январь-сентябрь 1930 года, тяжелое время расцвета коллективизации, когда рушились старые нормы и традиции и зарождались новые.
Роман был высоко отмечен представителями советской власти и удостоен высшей награды того времени — Ленинской премии 1960 года. Писалась эта книга, состоящая из двух частей, на протяжении нескольких десятилетий, и по популярности среди всех произведений Михаила Шолохова она занимает второе место после «Тихого Дона».
(Иллюстрации Ореста Верейского - советского графика-иллюстратора )
История создания
Первый том романа был написан Шолоховым в 1932 году, опубликован в журнале «Новый мир» тогда же. Он был принят публикой как окончательное, завершенное произведение, тогда как Шолохов работал над второй частью, которая, к сожалению, была утрачена в ходе войны, во время бомбежки его родного дома в станице Вешенской. В 50-х годах Шолохов вновь приступает к написанию второго тома «Поднятой целины», который был закончен и опубликован в 1959 году. Данное произведение, как говорил сам автор, было создано «по следам горячих событий», ведь сам Шолохов, занимавший в те времена должность продинспектора в одной из донских станиц, принимал в коллективизации непосредственное участие и не понаслышке знал как это происходило. Поэтому он и сумел так глубоко и ярко изобразить весь трагизм того времени в своем романе, который смело претендует на звание достоверного репортажа, рассказанного с места событий его непосредственным участником.
Анализ произведения
Повесть начинается с приезда на донской хутор Гремячий Лог коммуниста и участника движения 25-тысячников, бывшего моряка и рабочего Ленинградского завода семена Давыдова, задание которого организовать на хуторе колхоз. В тот же день на хутор тайно приезжает бывший есаул царской армии Половцев для организации восстания казаков против власти Советов. Дальнейшее развитие сюжетной линии посвящено истории организации колхоза на хуторе во главе с приехавшим представителем советской власти Давыдовым, помогают ему в этом деле глава местной партийной ячейки Макар Нагульный и председатель хуторского сельсовета Андрей Разметнов и другие жители хутора, поддерживающие советскую власть (хуторские бедняки и простые крестьяне Любишкин, Дубцов, Майданников).

Активно противостоят новой власти ярые контрреволюционеры и приверженцы старого режима — бывшие белые офицеры Половцев и Лятьевский, а также их подручные: местный богач яков Лукич Островнов, церковный староста Лапшинов, крестьяне-единоличники Атаманчуков и Банник, раскулаченный бандит Тимофей Рваный.
Меньше чем за год, преодолев все трудности, поборов недоверие крестьян-середняков, победив вредительство и бесхозяйственность, Давыдов и его сподвижники организовывают колхоз, в котором он становится председателем. Свято веря в идеи социализма, Давыдов собирает крестьян в колхоз, борется с кулаками и в конце романа погибает, как и его товарищ, Макар Нагульнов от рук белогвардейцев, организовавших заговор против советской власти.
Произведение заканчивается на трагической ноте, хотя в книге есть и комические эпизоды с участием такого веселого и хитроумного персонажа как дед Щукарь, а также описание личной жизни главных героев (романы непутевой жены Нагульнова Лушки, любовь к Давыдову молодой девушки Вари, отношения с женщинами председателя сельского совета Разметнова).
Главные герои
Одной из главных сюжетно-композиционных особенностей романа «Поднятая целина» является его многогеройность. В данном произведении в отличие от романа-эпопеи «Тихий дон» этого же автора, в котором при большом количестве персонажей центральное место все же отводится главному герою, Григорию Мелехову, все строители новой жизни на дону (Давыдов, Разметнов, Нагульнов) являются, по сути, равноправными героями.

Семен Давыдов - обычный рабочий, бывший матрос, участник движения 25-тысячников, целиком и полностью верный идеалам социализма и имеющий задание провести коллективизацию на хуторе Гремячий Лог. С первых же страниц романа Шолохов показывает его умение быстро ориентироваться в различных ситуациях, быстро сходиться с людьми и понимать мотивы их поступков. Постепенно по ходу развития сюжета автор показывает его положительные качества (скромность, отзывчивость, простота, доброта, гуманизм), которые помогают ему быстро завевать уважение жителей хутора, для них он достаточно быстро становится своим человеком. В кровавом противостоянии с противниками коллективизации он ведет себя как стойкий и мужественный боец, имеющий аналитический склад ума и благородную душу.
Макар Нагульнов - секретарь партийной ячейки на хуторе имеет сложный характер. Автор изображает его как человека всецело преданного идеям революции, он отличается твердостью, решительностью, и в то же время непосредственностью и добротой. Люто ненавидя владельцев частной собственности, не желающих вступать в колхоз, Макар допускает некоторые перегибы, за что его исключают из партии, это он воспринимает очень трагично и всеми силами добивается своего восстановления, потому что не представляет свою судьбу, оторванной от судьбы народа и советской власти.

Андрей Размётнов - председатель хуторского сельсовета, обладает более спокойным и уравновешенным характером, чем Нагульнов, точно также он предан делу революции, также как его товарищи он живет жизнью колхоза и крестьян, готов, как и они, отдать за правое дело построения социализма свою жизнь и все что у него есть. Автор показывает его трогательную верность трагически погибшей жене, способность проявлять жалость и сострадание даже к врагам революции (он хотел отомстить за смерть жены одному из обидчиков, но отступился от задуманного, пожалев его детей).
Главный антигерой романа «Поднятая целина» бывший есаул и белогвардейский офицер Александр Половцев, один из участников антисоветского заговора. Еще со времен Первой империалистической войны Половцев был известен как жестокий и безжалостный офицер, плохо относившийся к своим подчиненным, сейчас это сильный и опасный враг советской власти, готовый ради своей цели на многие кровавые жертвы. Описывая его черты лица, Шолохов для того чтобы раскрыть его звериную сущность использует эпитеты, более подходящие животному, чем человеку: «волчий склад черепа», «страшные, неподвижные зрачки», "хрящеватые, как у зверя уши». Простой народ для него равносилен табуну овец, который он без сожаления прирежет, если ему будет так нужно.
Особенности сюжетно-композиционного построения
Период жизни донского казачества, отображенный в романе «Поднятая целина» отличается особым драматизмом и трагичностью, что проявляется в мыслях и поступках людей, вовлеченных в эти события. Автор, используя изображение таких массовых сцен как собрание по поводу организации колхоза, хуторские сходки, процесс раскулачивания, бабий бунт по поводу возвращения семенного фонда раскрывает «народное мнение» и его виденье того или иного вопроса.

Эти массовые сцены являются одной из главных особенностей произведения, и с их помощью выражается духовное настроение народа на определенном этапе его духовного развития. Описание многоликости и разнохарактерности народной массы выполнено автором с большой художественной силой, неоднородные отношения между группами людей вызывают различные жаркие споры, яркие реплики, когда драматического, а когда и комического характера.
Это живое и яркое общение между различными группами населения, помогает видеть разносторонность, многоцветность и объемность представителей русского народа. Масштабные массовые сцены это своеобразные узловые точки, которые помогают развивать сюжетную линию и раскрывать в полной мере процесс роста самосознания обычных крестьян.
Роман «Поднятая целина», рассказывающая о глубине трагической судьбы народа в период коллективизации, после его прочтения не оставит ни одного читателя равнодушным. Это произведение лучше и ярче любого учебника истории расскажет нашим внукам и правнукам как их предки выстрадали своим потом и кровью новую жизнь, как дорого они за это платили,одвая за общее благо жизнь, как свою, так и своих близких.
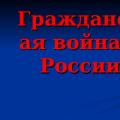 Презентация - гражданская война в россии Гражданская война в истории человечества презентация
Презентация - гражданская война в россии Гражданская война в истории человечества презентация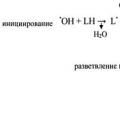 Продукты перекисного окисления липидов
Продукты перекисного окисления липидов Папка передвижка лексическая тема «Зима
Папка передвижка лексическая тема «Зима