Русофобы и русофилы. Русинская русофобия
Основываются наши русофилы и славянофилы свою теорию о каких-то мнимых особенностях русского народа. Милютин Дн. 4 103. Рассказывают, что из города Стерлитамака один местный помещик - великий собачей и конефил (у нас в большом употреблении слова: славянофил, руссофил и проч.; почему же коневода или жеребятника называть конефилом). ОЗ 1872 1 198 1 290. Муж Лидии Николаевны, Жюльвекур, сделавшись руссофилом, был один из редких в то время Французов, искренне возмущенных несправедливыми толками, распространенными на Западе о России и о Русских в особенности. А. В. Мещерский Восп. // РА 1900 3 306. Москва по моему делится на Москвы. - Славянофилов, русофилов и чиновников, не правда ли? сказал граф Обезьянинов. - Не совсем ; первая - этоМосква официальная, вторая - бомондная, третья - интеллигентная. Мещерский Граф 4 27. Руссофил мозга костей, воспитанный взглядах и традициях Александра III, смело мог быть записан в число черносотенцев, если бы не его гуманный и просвещенный взгляд на вещи и события. Бахрушин 149. Мы находим лишь разоблачение националистов-русофилов. НЛО 1996 21 385. В кругу русофилов, смогов, сексуальных мистиков. В. Ерофеев Дн. 1973. // НЛО 1998 29 290. - Лекс . Уш. 1939: руссофи/л; Ож. 1949: русофи/л.
Исторический словарь галлицизмов русского языка. - М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm . Николай Иванович Епишкин [email protected] . 2010 .
Синонимы :Смотреть что такое "русофил" в других словарях:
русофил - русофил … Орфографический словарь-справочник
русофил - русопят Словарь русских синонимов. русофил сущ., кол во синонимов: 1 русопят (5) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Русофил - м. Тот, кто благосклонно, с интересом и уважением относится ко всему русскому, к самим русским. Ant: русофоб Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
русофил - русофил, русофилы, русофила, русофилов, русофилу, русофилам, русофила, русофилов, русофилом, русофилами, русофиле, русофилах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
русофил - русоф ил, а … Русский орфографический словарь
русофил - (2 м); мн. русофи/лы, Р. русофи/лов … Орфографический словарь русского языка
русофил - (Русин, грч. philos пријател) пријател на Русите и на се што е руско … Macedonian dictionary
русофил - а; м. [от сл. русский и греч. phileō люблю] Тот, кто имеет пристрастие ко всему русскому. ◁ Русофилка, и; мн. род. лок, дат. лкам; ж. Разг … Энциклопедический словарь
русофил - а; м. (от сл. русский и греч. philéō люблю) см. тж. русофилка Тот, кто имеет пристрастие ко всему русскому … Словарь многих выражений
русофил - рус/о/фил/ … Морфемно-орфографический словарь
Книги
- Александр Иванов , С. С. Степанова. Творчество знаменитого живописца Александра Андреевича Иванова принадлежит к величайшим явлениям русской культуры, а его неординарная личность представляет не меньший интерес, чем созданные…
Сталин: русофил или русофоб? Как «вождь народов» решал «русский вопрос». ___________________________________________________________________ Едва ли не вся идеологическая политика Иосифа Сталина определялась изменениями его взглядов на роль русской нации в развитии СССР. При этом решающее влияние на грузинского революционера Иосифа Джугашвили оказал человек, которого Сталин, с одной стороны, считал своим Учителем (с большой буквы), а с другой – с политическими взглядами которого по большому счету боролся всю жизнь. Звали этого человека Владимир Ульянов-Ленин. По-настоящему это резкое противоречие между двумя вождями начало складываться сразу же после Октябрьского большевистского переворота 1917 г., апогея достигло в конце 1922 г. в процессе формирования нового государства на пространстве бывшей Российской империи – Советского Союза, а потом то обострялось, то затухало вплоть до самой смерти Сталина. Впервые проявилось это противоречие уже 2 (15) ноября 1917 г., когда Ленин от имени созданного им правительства Российской Республики собственноручно пишет "Декларацию прав народов России", где фактически было объявлено, что в результате Октябрьской революции на территории бывшей Российской империи закончило своё существование старое государство, базировавшееся на воле русского народа, а на его месте "остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнет и произвол, к раскрепощению которых должно быть приступлено немедленно, освобождение которых должно быть проведено решительно и бесповоротно". Ленинский документ не оставлял никаких сомнений в том, что отныне с такой категорией, как русская нация, которая, в силу своего объективного положения, ранее объединяла все слои населения российского общества, покончено навсегда, и теперь в стране существует только класс рабочих и крестьян, которому противостоит класс мировой буржуазии. Это эпохальное новшество исторического значения закреплялось в следующих словах: прежняя Россия "отныне должна быть заменена политикой добровольного и честного союза народов России... Только в результате такого союза, – подчеркивалось в этом эпохальном документе, – могут быть спаяны рабочие и крестьяне народов России в одну революционную силу, способную устоять против всяких покушений со стороны империалистско-аннексионистской буржуазии". Во исполнение воли первого и второго съездов Советов "Совет народных комиссаров, – заявлялось в Декларации, – решил положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях России следующие начала: 1) Равенство и суверенность народов России. 2) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. 3) Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений. 4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России" (выделено Лениным). Документ был подписан следующим образом: "Именем Республики Российской Народный комиссар по делам национальностей Иосиф Джугашвили-Сталин. Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)". Как следовало из текста этого наспех, что называется, на коленке написанного лично Лениным документа (через неделю после переворота), главная его цель заключалась в том, чтобы воплотить в действительность давнюю мечту Ульянова-Ленина – покончить в России с государствообразующей ролью русской нации, русского народа, с этой, как он считал, "великодержавной швалью". Это сильное эмоционально-раздражительное выражение Ульянов-Ленин позволил себе употреблять только в конце 1922 года, уже перед смертью, когда у разрушенного болезнью организма уже не осталось более сил для сдерживания эмоций. Но в критических условиях политического переворота Ленин в полной мере отдавал себе отчет в том, что в этот момент он ещё не может сделать это только от своего имени, не может свою неприязнь к русскому народу выразить только от себя лично, и потому при подписании Декларации Ильич "спрятался" за Джугашвили-Сталина, поставив его подпись первой. Позже нарком по национальным делам свою позицию, отраженную в совместном с Лениным тексте Декларации, изменит, и не один раз, но в принципе, Сталин всю свою сознательную жизнь оставался большевиком, то есть верным ленинцем, и к роли русского народа в СССР у него всегда будет сдержанное, а по большей части и негативное отношение: ведь совсем не случайно русские в своей стране до Октября жили не хуже других, а действительно хуже (беднее), по сравнению с другими, стали жить только после Октября. Ленин, как известно, исходил из того, что русский народ во все века на территории Российской империи занимался только тем, что угнетал все другие народы, и потому при образовании Советского Союза потребовал от ЦК РКП(б), чтобы в новом государственном образовании были заложены гарантии избавления от якобы "векового угнетения" других наций со стороны русских в форме: – во первых, образования внутри СССР государственной организации наций в форме республик. В том числе и Украины, хотя украинцы никогда никакой государственности в истории не имели. – во-вторых, в официально закрепленном в Конституции праве выхода из СССР любой национальной союзной республики. Сталин, как известно, так не считал и предложил совсем другую модель национальных взаимоотношений в создаваемом под неусыпным ленинским контролем СССР: единая и неделимая Россия должна была остаться и дальше в виде РСФСР, а в её состав на положении культурных автономий входят все другие национально организованные образования. Путем колоссальной силы ленинского натиска идея Сталина была не просто отклонена, но разрушена и уничтожена, а Советский Союз был образован таким, каким его навязал Ленин. И это несмотря на то, что даже верные последователи Ленина признавали, что союзные республики в составе СССР конституируются из народов и наций, которые никогда в своей истории своей государственности не имели. В 1920-е годы Сталин был вынужден принять все продиктованные ему Лениным условия в отношении умаления политической роли русского народа в становлении русского национального государства и при этом ещё и талдычить вплоть до 1930 года, что "решительная борьба с пережитками великорусского шовинизма является первоочередной задачей нашей партии", так как "великорусский шовинизм отражает стремление отживающих классов господствовавшей ранее великорусской нации вернуть себе утраченные привилегии" (политический отчет ЦК ВКП(б) съезду партии). В исторической науке главным идеологом в деле материализации ленинской позиции в отношении исторической роли русского народа в эти годы оставался академик М.Н. Покровский, которого благословлял на эту роль сам Ленин. Стоило Покровскому в 1920 году опубликовать книгу "Русская история в самом сжатом очерке", как Ленин тут же её прочитал и 5 декабря 1920 направил академику краткое письмо: «Тов. М. Н. Покровскому. Тов. М. Н.! Очень поздравляю вас с успехом: чрезвычайно понравилась мне Ваша новая книга «Рус[ская] И[стория] в сам[ом] сж[атом] оч[ерке]». Оригинальное строение и изложение. Читается с громадным интересом. Надо будет, по-моему, перевести на евр[опейские] языки…». Сочинения Покровского Сталину, мягко скажем, не импонировали с самого начала, но, зная об активной поддержке основателя послеоктябрьской русской исторической школы со стороны Ленина, он до самой смерти Покровского четко и недвусмысленно поддерживал его позиции, например, позицию историка о том, что в СССР строится не национальное государство, а государство мирового пролетариата. Так, когда немецкий писатель Эмиль Людвиг 13 декабря 1931 года спросил Сталина, допускает ли он параллель между собой и Петром Великим, то генсек не задумываясь пояснил: нет, с Петром он себя не отождествляет, прежде всего потому, что Пётр Великий создавал и укреплял национальное государство помещиков и торговцев, а он, Сталин, ставит себе в задачу "не укрепление какого-либо "национального" государства, а укрепление государства социалистического, и значит, – интернационального, причем всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса". Не возражал он Покровскому, по крайней мере, публично, и по вопросу исторической роли русского народа. Покровский четко исходил из того, что не нес в себе русский народ никакой объединительной роли по отношению к другим народам, а был, как и указывал Ленин, "русским держимордой", угнетавшей все другие, присоединенные к русскому государству, народы. Так, когда председатель ЦИК Грузинской ССР Филипп Махарадзе (1868–1941), известный по конфликту со Сталиным в 1922 году в вопросе по поводу федеративного устройства СССР, в 1931 году имел неосторожность высказаться о положительном историческом взаимоотношении Грузии и России, это так возбудило Покровского, что он на Всесоюзной конференции историков-марксистов тут же взял слово и произнес: «Великорусский шовинизм есть опасность много большая, чем это могут себе представить некоторые представители нацменьшинств. Ещё раз повторяю, я считаю, что т. Махарадзе относится к нам, русским, слишком снисходительно. В прошлом мы, русские, – а я великоросс самый чистокровный, какой только может быть, – в прошлом мы, русские, величайшие грабители, каких только можно себе представить». Более того, Покровский в основание созданной им схемы исторической науки послеоктябрьского периода заложил тезис о том, что вся русская дореволюционная историческая наука, базирующаяся на трудах Б. Чичерина, С. Соловьева или В. Ключевского, которые отстаивали решающую роль русского народа в становлении и развитии русского национального государства – это наука помещичье-буржуазная, а значит – контрреволюционная. Прежде всего, утверждал Покровский, она таковой является потому, что в свою основу кладет историю русской нации и русского национального государства. До конца своих дней Покровский боролся за то, чтобы прежнюю историю России заменить на новую – историю народов СССР. Характерный в этом плане пример: в августе 1928 года, когда Покровский задумывал созвать Всесоюзную конференцию историков-марксистов, то включил в структуру конференции секцию "История России". Но через три месяца спохватился и переназвал секцию – "История народов СССР", объяснив это в следующих словах: «От одной из устаревших рубрик нас избавил коммунистический стыд. Мы поняли – чуть-чуть поздно – что термин "русская история" есть контрреволюционный термин, одного издания с трехцветным флагом и "единой неделимой"». Профессор РГГУ Андрей Львович Юрганов справедливо замечает на этот счет: Покровский табуировал целую область знания об этапах развития русской нации. А вот Сталина в этом плане мучил не "коммунистический стыд", а нечто иное: его всё больше беспокоило, что строительство Советского Союза, основанное на ленинском принципе размывания государствообразующей роли русского народа, сопровождала оголтелая политическая кампания в прессе союзных республик с призывами покончить с великорусским великодержавным шовинизмом и требования каленым железом выжечь колонизаторское наследие русского царизма, всё ещё живуче присутствующее в поведении русских коммунистов. Но к началу 1930-х гг. Генеральный секретарь ЦК РКП (б) стал ощущать, что вся политическая организация советского общества стала расползаться по национальным швам. Жестко контролируемый из Москвы коммунистический партийный аппарат своей политической и идеологической деятельностью, конечно, жестко скреплял советский политический организм по всей стране, но достаточной социальной прочности он всё же не обеспечивал. То тут, то там постоянно возникали очаги политического недовольства политикой партии. Генсека это сильно беспокоило. Под вопрос вставало существование самого ленинского творения – Советского Союза. Следует учесть и то, что Сталин в эти годы жил под гнетом полной уверенности, что империалистический Запад вынашивает мысль о скором нападении на "первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян". Дать отпор такому нападению можно было только при условии сохранения крепкого социального единства советского общества. А какая сила могла такое единство обеспечить? Только русский национальный элемент, доля которого в общем составе населения СССР составляла около 70%. Но для того, чтобы русские такую роль на себя приняли осознанно, им нужно было сообщить, что именно они-то и являются ведущей социальной силой советского общества. И генсек принялся разворачивать идеологическую лодку. Внешне этот поворот вначале выглядел довольно безобидно. 27 декабря 1929 г. Сталин выступает на конференции аграрников-марксистов и ставит вопрос о «разрыве между практическими успехами и развитием теоретической мысли». Этот упрёк в адрес исторической школы Покровского, заключающийся в том, что предлагаемая им теория перестает отвечать нуждам практического строительства социалистического государства, никто не заметил, включая и самого Покровского. В октябре 1931 г. Сталин пишет письмо «О некоторых вопросах истории большевизма», которое публикуют все московские партийные идеологические журналы (»Большевик», «Пролетарская революция», «Коммунистическое просвещение», «Борьба классов»). Избрав адресатом своих критических замечаний совершенно третьестепенную фигуру – историка А.Г. Слуцкого (1894–1979, с 1937 по 1957 г. – узник ГУЛАГа), о котором до этого никто даже и слыхом не слыхивал в исторической среде, Сталин на самом-то деле ударил по историкам школы Покровского (а других официальных историков в то время в СССР не было), упрекая их в том, что они свои труды строят на "бумажных документах", а не на реальных делах и практике большевизма. Статья заканчивалась куда как ясным выводом в этом отношении: "...Даже некоторые наши историки, – я говорю об историках без кавычек, о большевистских историках нашей партии, – не свободны от ошибок, льющих воду на мельницу Слуцких и Волосевичей [автор "Курса истории ВКП(б)]. Исключения не составляет здесь, к сожалению, и т. Ярославский, книжки которого по истории ВКП(б), несмотря на их достоинства, содержат ряд ошибок принципиального и исторического характера". Примечательно, что акцент в этих выступления генсек сделал на тезисе о том, что именно русский народ во всей истории Руси-России всегда выступал в качестве объединяющей силы в формировании российского (русского) государства. Поэтому не в Емельяна Ярославского (Моисея Губельмана) целил генсек в своих статьях, а в ленинского любимца – М.Н. Покровского. Последний, однако, не понял этого (или не захотел понять). Вплоть до своей смерти (1932 г.) он продолжал доказывать, что верно следовал указаниям Ленина в развитии советской исторической науки. А основной его тезис касался утверждения о том, что в истории России с древнейших времен русский народ никакой объединительной миссии по отношению к другим национальностям (народам) никогда не нёс. В последнем за 1930 г. номере журнала "Историк-марксист" Покровский в статье "Возникновение Московского государства и "великорусская народность" отрицал даже само существование "великоруссов": "А кто такие эти "великорусы", – писал он, – ...никаких великорусов не было вообще – на этой территории проживали финские племена, автохтоны, которые... финизировали своих поработителей". "Уже Московское великое княжество, не только Московское царство, было "тюрьмою народов". Великороссия построена на костях "инородцев", и едва ли последние много утешены тем, что в жилах великорусов течет 80% их крови. Только окончательное свержение великорусского гнета той силой, которая боролась и борется со всем и всяческим угнетением, могло послужить некоторой расплатой за все страдания, которые причинил им этот гнет". Сталина просто коробила вся эта инспирированная Лениным русофобская вакханалия. Ведь он ещё в 1913 году в работе "Марксизм и национальный вопрос" черным по белому написал: "В России роль объединителя национальностей взяли на себя великороссы, имевшие во главе сложившуюся сильную организованную дворянскую бюрократию". Однако в начале 1930-х впрямую бороться с исторической школой Покровского генсек ещё не мог. И не только потому, что Покровский и его многочисленные ученики опирались на прямую поддержку Ленина и держали в своих руках всю историческую науку вплоть до смерти Покровского. А ещё и потому, что Сталин в эти годы был вынужден бороться сразу на нескольких фронтах: – обеспечить личное политическое выживание в схватке с людьми из бывшего ближайшего окружения Ленина. А это были не только Троцкий, Зиновьев, Каменев, но и такие, как лично знавший Ленина И.Н. Смирнов ("победитель Колчака", арестован в 1933 г., расстрелян в августе 1936 г., через несколько месяцев были арестованы и расстреляны его жена и дочь, хотя именно под гарантии следствия, что им будет сохранена жизнь, он подписал "признание" в контрреволюционной деятельности), бросивший в 1932 году в узком кругу единомышленников фразу "Сталин думает, что на него не найдется пули"; – укреплять социальную основу политической системы СССР и проводить индустриализацию, готовя Советский Союз к неизбежной войне с Европой и Японией; – обосновывать концепцию возможности победы социализма в одной отдельно взятой стране в условиях враждебного империалистического окружения и ещё много чего, о чём в Октябре 1917-го никто даже никакого понятия не имел. Но, тем не менее, как заметил в 1990-е годы в одной из своих работ известный литературовед и великолепный публицист Вадим Кожинов http://kozhinov.voskres.ru/ (1930–2001), "в стране уже начался коренной поворот" в области идеологии. 5 марта 1934 г. появилось решение Политбюро по этому вопросу, 20 марта заведующий отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП (б) А.И. Стецкий и А.С. Бубнов получили задание подготовить предложение о составе авторов учебников. 29 марта постановлением Политбюро авторские коллективы были утверждены. В тот же день Политбюро приняло постановление о введении исторических факультетов в составе университетов. Для выработки итогового документа Бубнову было поручено вызвать из ссылки Е.В. Тарле. Два постановления Политбюро от 29 марта были объединены и составили основу постановления Политбюро (и СНК СССР) от 15 мая «О преподавании гражданской истории в школах СССР», текст которого был отредактирован самим Сталиным. Свидетельство о заседании Политбюро ЦК 29 марта сохранил для истории приглашенный на это действо историк С.А. Пионтковский. Практически на заседании говорил только генсек, пишет он в своем дневнике, так как остальные просто не были готовы к такому идеологическому развороту. "История, – говорил генсек, – должна быть историей. Нужны учебники древнего мира, средних веков, нового времени, история СССР, история колониальных и угнетенных народов. Бубнов сказал, может быть, не СССР, а история народов России? Сталин говорит – нет, история СССР, русский народ в прошлом собирал другие народы, к такому же собирательству он приступил и сейчас. Дальше, между прочим, он сказал, что схема Покровского не марксистская схема, и вся беда пошла от времен влияния Покровского". Как пишет публикатор архивных документов того периода М.В. Зеленов, Сталин готовился к войне и понимал, что необходимо готовить к ней и массовое историческое сознание, для чего необходимо было формировать новую историческую идеологию, охватывающую население страны призывного возраста, т.е. студентов и старших школьников. Удобнее это было сделать через школьные учебники и истфаки университетов. Фигура Покровского не была заменена каким-либо иным авторитетным историком, она была заменена фигурой Сталина. Результат проведенной реформы был оправдан в годы войны: власть смогла сформировать такую идеологию, такое понимание патриотизма, которые объединяли воедино все народы, национальности в борьбе против фашизма. При изменении массового исторического сознания через кинематограф и литературу предпринятые меры дали желаемый эффект. Как всегда, проведение реформ сопровождалось сменой носителей старых идей на носителей новых идей. Если в 1929–1930 гг. репрессировалась старая профессура, то в 1934–1936 гг. были репрессированы представители «школы Покровского». Смена курса в 1938–1939 гг. также привела к новым репрессиям, поскольку Сталин мыслил персоналистично: новую идеологию должны проводить новые люди. Следует при этом сделать одно замечание: позицию Сталина идеализировать в этом плане не стоит. Было бы неверным считать Сталина русофилом или русофобом. Он был тем, кем он сам себя долго называл – нацменом. При этом следует учитывать, что выраженную Сталиным при образовании СССР концепцию автономизации (единая и неделимая в политическом отношении Россия) менее всего следует толковать как русоцентризм, и уж тем более как русофильство. Нет, конечно, русофилом Сталин никогда не был (хотя и русофобом – тоже). Генсек в своем поведении всегда руководствовался политической целесообразностью. Он всегда был, и при этом и ощущал себя представителем малого народа, присоединившимся (присоединенным) к великому народу и к великой стране. То есть Иосиф Джугашвили с молоком матери воспринимал как данное свыше, что Россия – это великая, мирового значения держава, а русский народ – это государствообразующая этническая субстанция, которая на протяжении многих веков сумела организовать на огромной географической территории земного шара государство с культурой (духовной, материальной, интеллектуальной, бытовой) мирового значения, и на основе этой культуры этот народ (русский) объединил вокруг себя десятки других народов и их культур, не уничтожая и не разрушая эти последние, а, по мере возможности, сохраняя их. Как нацмен Иосиф Джугашвили остро ощущал свою грузинскую сущность, любил свой народ, что нашло проявление в его юношеских стихах, но при этом не отторгал ни русский народ, ни русскую культуру. Более того, уже в революционной среде отличаясь от своего близкого окружения глубоким умом и ясным сознанием, он понимал, что единственным (и главным) фактором, обеспечивающим существование этого громадного образования – Российской империи – был всегда русский народ, играющий государствообразующую роль. В отличие от Ленина он хорошо это понимал и потому и выступал за сохранение самого этого народа и формы его естественного существования – Российского государства в его единстве и неделимости. В новейшей российской историографии есть любители утверждать, что ленинский русофобский взгляд на историческую роль русского народа является вовсе не ленинским, а это, дескать, Троцкий его попутал и даже именно Троцкий-то якобы и подтасовал последние надиктованные вождем статьи с резкими обвинениями в адрес "русских держиморд". Но дело, конечно, не в спекулятивных попытках во что бы то ни стало "реабилитировать" "вождя мирового пролетариата" в его русофобских позициях. Анализировать нужно факты и только факты. А эти последние показывают, что сталинская концепция "автономизации" была Лениным опрокинута с вполне определенным намерением, и Советский Союз был сознательно создан с колоссальной силы миной, заложенной в его организационно-политическое основание, миной, которая рано или поздно должна была рвануть, и Россию как единое цельное государство русской нации уничтожить. Эта мина и рванула через 67 лет после смерти Ульянова-Ленина. А Сталин в политике всегда оставался холодным прагматиком. Когда для достижения одной политической цели, которую он сам же для себя и формулировал, было необходимо увеличивать роль русского народа – он это делал. Когда же ему казалось, что пришло время делать обратное – он это и делал. Так, в мае 1944 года Сталин неожиданно для всех собирает в Кремле ведущих ученых-историков, ставит перед ними задачу разработки нового учебника истории СССР и держит всю эту братию в Москве до сентября. Казалось бы, с чего это вдруг? Идет война, страна задыхается в тисках голода и перенапряжения от необходимости наращивать все виды вооружений, идут тяжелейшие переговоры с англо-американскими союзниками об открытии второго фронта в Европе, а вождя вдруг заинтересовали проблемы преподавания истории. Это закрытое (а правильнее было бы сказать – секретное) многомесячное совещание историков в Кремле, в котором приняли участие все главные идеологи ВКП(б), до сих пор овеяно ореолом загадочности и тайны. Для непосредственного руководства этим секретным совещанием Сталин в ночь на 12 июля 1944 года внезапно вызвал из Ленинграда А. Жданова. Если судить по открытым ныне архивным документам, не только Жданов, но и никто из штатных идеологов ЦК, что руководили этим совещанием, не могли взять в толк, чего добивается от них вождь. Сам же Сталин так и не раскрыл своих карт. По-видимому, не хотел сказать в открытую, что надо просто поменять акценты в освещении советской истории и поставить во главу угла в развитии и укреплении Советского Союза, собирательную и объединительную роль не русского, как это было в официальной идеологии с 1934 года, а советского народа. Впрямую вождь скажет об этом позже, уже после войны. А особенно активно начнет внедрять этот тезис после 1948 года, когда вовсю начнет разворачиваться "Ленинградское дело". Ему это нужно будет для того, чтобы внедрить в умы граждан СССР другой свой тезис: в 1941–1945 годах солдаты Красной армии защищали не "матушку Россию", как он в 1942 году сказал У. Черчиллю, а советский строй, то есть созданный им, Сталиным, политический режим. Жданов же в 1944 году если и понял что-то, то все же, судя по его поведению, не смог переломить себя и прямо написать в проекте резолюции совещания, что все заслуги в развитии СССР принадлежат не русскому, а советскому человеку... Как видно, не случайно один из сталинских наркомов Вячеслав Молотов уже глубоко постфактум, в 1980 году, вынужден был признать: "Коммунистическая партия так и не смогла решить русский вопрос, то есть, каким должен быть статус РСФСР и русской нации в СССР". Владимир Кузнечевский
Едва ли не вся идеологическая политика Иосифа Сталина определялась изменениями его взглядов на роль русской нации в развитии СССР. При этом решающее влияние на грузинского революционера Иосифа Джугашвили оказал человек, которого Сталин, с одной стороны, считал своим Учителем (с большой буквы), а с другой – с политическими взглядами которого по большому счету боролся всю жизнь. Звали этого человека Владимир Ульянов-Ленин.
По-настоящему это резкое противоречие между двумя вождями начало складываться сразу же после Октябрьского большевистского переворота 1917 г., апогея достигло в конце 1922 г. в процессе формирования нового государства на пространстве бывшей Российской империи – Советского Союза, а потом то обострялось, то затухало вплоть до самой смерти Сталина.
Впервые проявилось это противоречие уже 2 (15) ноября 1917 г., когда Ленин от имени созданного им правительства Российской Республики собственноручно пишет "Декларацию прав народов России", где фактически было объявлено, что в результате Октябрьской революции на территории бывшей Российской империи закончило своё существование старое государство, базировавшееся на воле русского народа, а на его месте "остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнет и произвол, к раскрепощению которых должно быть приступлено немедленно, освобождение которых должно быть проведено решительно и бесповоротно".
Ленинский документ не оставлял никаких сомнений в том, что отныне с такой категорией, как русская нация, которая, в силу своего объективного положения, ранее объединяла все слои населения российского общества, покончено навсегда, и теперь в стране существует только класс рабочих и крестьян, которому противостоит класс мировой буржуазии. Это эпохальное новшество исторического значения закреплялось в следующих словах: прежняя Россия "отныне должна быть заменена политикой добровольного и честного союза народов России... Только в результате такого союза, – подчеркивалось в этом эпохальном документе, – могут быть спаяны рабочие и крестьяне народов России в одну революционную силу, способную устоять против всяких покушений со стороны империалистско-аннексионистской буржуазии".
Во исполнение воли первого и второго съездов Советов "Совет народных комиссаров, – заявлялось в Декларации, – решил положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях России следующие начала:
1) Равенство и суверенность народов России.
2) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств.
3) Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений.
4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России" (выделено Лениным).
Документ был подписан следующим образом:
"Именем Республики Российской
Народный комиссар по делам национальностей
Иосиф Джугашвили-Сталин.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)".
Как следовало из текста этого наспех, что называется, на коленке написанного лично Лениным документа (через неделю после переворота), главная его цель заключалась в том, чтобы воплотить в действительность давнюю мечту Ульянова-Ленина – покончить в России с государствообразующей ролью русской нации, русского народа, с этой, как он считал, "великодержавной швалью".
Это сильное эмоционально-раздражительное выражение Ульянов-Ленин позволил себе употреблять только в конце 1922 года, уже перед смертью, когда у разрушенного болезнью организма уже не осталось более сил для сдерживания эмоций.
Но в критических условиях политического переворота Ленин в полной мере отдавал себе отчет в том, что в этот момент он ещё не может сделать это только от своего имени, не может свою неприязнь к русскому народу выразить только от себя лично, и потому при подписании Декларации Ильич "спрятался" за Джугашвили-Сталина, поставив его подпись первой.
Позже нарком по национальным делам свою позицию, отраженную в совместном с Лениным тексте Декларации, изменит, и не один раз, но в принципе, Сталин всю свою сознательную жизнь оставался большевиком, то есть верным ленинцем, и к роли русского народа в СССР у него всегда будет сдержанное, а по большей части и негативное отношение: ведь совсем не случайно русские в своей стране до Октября жили не хуже других, а действительно хуже (беднее), по сравнению с другими, стали жить только после Октября.
Ленин, как известно, исходил из того, что русский народ во все века на территории Российской империи занимался только тем, что угнетал все другие народы, и потому при образовании Советского Союза потребовал от ЦК РКП(б), чтобы в новом государственном образовании были заложены гарантии избавления от якобы "векового угнетения" других наций со стороны русских в форме:
– во первых, образования внутри СССР государственной организации наций в форме республик. В том числе и Украины, хотя украинцы никогда никакой государственности в не имели.
– во-вторых, в официально закрепленном в Конституции праве выхода из СССР любой национальной союзной республики.
Сталин, как известно, так не считал и предложил совсем другую модель национальных взаимоотношений в создаваемом под неусыпным ленинским контролем СССР: единая и неделимая Россия должна была остаться и дальше в виде РСФСР, а в её состав на положении культурных автономий входят все другие национально организованные образования.
Путем колоссальной силы ленинского натиска идея Сталина была не просто отклонена, но разрушена и уничтожена, а Советский Союз был образован таким, каким его навязал Ленин. И это несмотря на то, что даже верные последователи Ленина признавали, что союзные республики в составе СССР конституируются из народов и наций, которые никогда в своей истории своей государственности не имели.
В 1920-е годы Сталин был вынужден принять все продиктованные ему Лениным условия в отношении умаления политической роли русского народа в становлении русского национального государства и при этом ещё и талдычить вплоть до 1930 года, что "решительная борьба с пережитками великорусского шовинизма является первоочередной задачей нашей партии", так как "великорусский шовинизм отражает стремление отживающих классов господствовавшей ранее великорусской нации вернуть себе утраченные привилегии" (политический отчет ЦК ВКП(б) съезду партии).
В исторической науке главным идеологом в деле материализации ленинской позиции в отношении исторической роли русского народа в эти годы оставался академик М.Н. Покровский, которого благословлял на эту роль сам Ленин. Стоило Покровскому в 1920 году опубликовать книгу "Русская история в самом сжатом очерке", как Ленин тут же её прочитал и 5 декабря 1920 направил академику краткое письмо:
«Тов. М. Н. Покровскому.
Тов. М. Н.! Очень поздравляю вас с успехом: чрезвычайно понравилась мне Ваша новая книга «Рус[ская] И[стория] в сам[ом] сж[атом] оч[ерке]». Оригинальное строение и изложение. Читается с громадным интересом. Надо будет, по-моему, перевести на евр[опейские] языки…».
Сочинения Покровского Сталину, мягко скажем, не импонировали с самого начала, но, зная об активной поддержке основателя послеоктябрьской русской исторической школы со стороны Ленина, он до самой смерти Покровского четко и недвусмысленно поддерживал его позиции, например, позицию историка о том, что в СССР строится не национальное государство, а государство мирового пролетариата. Так, когда немецкий писатель Эмиль Людвиг 13 декабря 1931 года спросил Сталина, допускает ли он параллель между собой и Петром Великим, то генсек не задумываясь пояснил: нет, с Петром он себя не отождествляет, прежде всего потому, что Пётр Великий создавал и укреплял национальное государство помещиков и торговцев, а он, Сталин, ставит себе в задачу "не укрепление какого-либо "национального" государства, а укрепление государства социалистического, и значит, – интернационального, причем всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса".
Не возражал он Покровскому, по крайней мере, публично, и по вопросу исторической роли русского народа.
Покровский четко исходил из того, что не нес в себе русский народ никакой объединительной роли по отношению к другим народам, а был, как и указывал Ленин, "русским держимордой", угнетавшей все другие, присоединенные к русскому государству, народы.
Так, когда председатель ЦИК Грузинской ССР Филипп Махарадзе (1868–1941), известный по конфликту со Сталиным в 1922 году в вопросе по поводу федеративного устройства СССР, в 1931 году имел неосторожность высказаться о положительном историческом взаимоотношении Грузии и России, это так возбудило Покровского, что он на Всесоюзной конференции историков-марксистов тут же взял слово и произнес: «Великорусский шовинизм есть опасность много большая, чем это могут себе представить некоторые представители нацменьшинств. Ещё раз повторяю, я считаю, что т. Махарадзе относится к нам, русским, слишком снисходительно. В прошлом мы, русские, – а я великоросс самый чистокровный, какой только может быть, – в прошлом мы, русские, величайшие грабители, каких только можно себе представить».
Более того, Покровский в основание созданной им схемы исторической науки послеоктябрьского периода заложил тезис о том, что вся русская дореволюционная историческая наука, базирующаяся на трудах Б. Чичерина, С. Соловьева или В. Ключевского, которые отстаивали решающую роль русского народа в становлении и развитии русского национального государства – это наука помещичье-буржуазная, а значит – контрреволюционная.
Прежде всего, утверждал Покровский, она таковой является потому, что в свою основу кладет историю русской нации и русского национального государства. До конца своих дней Покровский боролся за то, чтобы прежнюю историю России заменить на новую – историю народов СССР. Характерный в этом плане пример: в августе 1928 года, когда Покровский задумывал созвать Всесоюзную конференцию историков-марксистов, то включил в структуру конференции секцию "История России". Но через три месяца спохватился и переназвал секцию – "История народов СССР", объяснив это в следующих словах: «От одной из устаревших рубрик нас избавил коммунистический стыд. Мы поняли – чуть-чуть поздно – что термин "русская история" есть контрреволюционный термин, одного издания с трехцветным флагом и "единой неделимой"».
Профессор РГГУ Андрей Львович Юрганов справедливо замечает на этот счет: Покровский табуировал целую область знания об этапах развития русской нации.
А вот Сталина в этом плане мучил не "коммунистический стыд", а нечто иное: его всё больше беспокоило, что строительство Советского Союза, основанное на ленинском принципе размывания государствообразующей роли русского народа, сопровождала оголтелая политическая кампания в прессе союзных республик с призывами покончить с великорусским великодержавным шовинизмом и требования каленым железом выжечь колонизаторское наследие русского царизма, всё ещё живуче присутствующее в поведении русских коммунистов.
Но к началу 1930-х гг. Генеральный секретарь ЦК РКП (б) стал ощущать, что вся политическая организация советского общества стала расползаться по национальным швам.
Жестко контролируемый из Москвы коммунистический партийный аппарат своей политической и идеологической деятельностью, конечно, жестко скреплял советский политический организм по всей стране, но достаточной социальной прочности он всё же не обеспечивал.
То тут, то там постоянно возникали очаги политического недовольства политикой партии. Генсека это сильно беспокоило. Под вопрос вставало существование самого ленинского творения – Советского Союза.
Следует учесть и то, что Сталин в эти годы жил под гнетом полной уверенности, что империалистический Запад вынашивает мысль о скором нападении на "первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян". Дать отпор такому нападению можно было только при условии сохранения крепкого социального единства советского общества. А какая сила могла такое единство обеспечить? Только русский национальный элемент, доля которого в общем составе населения СССР составляла около 70%. Но для того, чтобы русские такую роль на себя приняли осознанно, им нужно было сообщить, что именно они-то и являются ведущей социальной силой советского общества.
И генсек принялся разворачивать идеологическую лодку.
Внешне этот поворот вначале выглядел довольно безобидно. 27 декабря 1929 г. Сталин выступает на конференции аграрников-марксистов и ставит вопрос о «разрыве между практическими успехами и развитием теоретической мысли». Этот упрёк в адрес исторической школы Покровского, заключающийся в том, что предлагаемая им теория перестает отвечать нуждам практического строительства социалистического государства, никто не заметил, включая и самого Покровского. В октябре 1931 г. Сталин пишет письмо «О некоторых вопросах истории большевизма», которое публикуют все московские партийные идеологические журналы (»Большевик», «Пролетарская революция», «Коммунистическое просвещение», «Борьба классов»).
Избрав адресатом своих критических замечаний совершенно третьестепенную фигуру – историка А.Г. Слуцкого (1894–1979, с 1937 по 1957 г. – узник ГУЛАГа), о котором до этого никто даже и слыхом не слыхивал в исторической среде, Сталин на самом-то деле ударил по историкам школы Покровского (а других официальных историков в то время в СССР не было), упрекая их в том, что они свои труды строят на "бумажных документах", а не на реальных делах и практике большевизма. Статья заканчивалась куда как ясным выводом в этом отношении: "...Даже некоторые наши историки, – я говорю об историках без кавычек, о большевистских историках нашей партии, – не свободны от ошибок, льющих воду на мельницу Слуцких и Волосевичей [автор "Курса истории ВКП(б)]. Исключения не составляет здесь, к сожалению, и т. Ярославский, книжки которого по истории ВКП(б), несмотря на их достоинства, содержат ряд ошибок принципиального и исторического характера".
Примечательно, что акцент в этих выступления генсек сделал на тезисе о том, что именно русский народ во всей истории Руси-России всегда выступал в качестве объединяющей силы в формировании российского (русского) государства.
Поэтому не в Емельяна Ярославского (Моисея Губельмана) целил генсек в своих статьях, а в ленинского любимца – М.Н. Покровского. Последний, однако, не понял этого (или не захотел понять). Вплоть до своей смерти (1932 г.) он продолжал доказывать, что верно следовал указаниям Ленина в развитии советской исторической науки. А основной его тезис касался утверждения о том, что в истории России с древнейших времен русский народ никакой объединительной миссии по отношению к другим национальностям (народам) никогда не нёс.
В последнем за 1930 г. номере журнала "Историк-марксист" Покровский в статье "Возникновение Московского государства и "великорусская народность" отрицал даже само существование "великоруссов": "А кто такие эти "великорусы", – писал он, – ...никаких великорусов не было вообще – на этой территории проживали финские племена, автохтоны, которые... финизировали своих поработителей". "Уже Московское великое княжество, не только Московское царство, было "тюрьмою народов". Великороссия построена на костях "инородцев", и едва ли последние много утешены тем, что в жилах великорусов течет 80% их крови. Только окончательное свержение великорусского гнета той силой, которая боролась и борется со всем и всяческим угнетением, могло послужить некоторой расплатой за все страдания, которые причинил им этот гнет".
Сталина просто коробила вся эта инспирированная Лениным русофобская вакханалия.
Ведь он ещё в 1913 году в работе "Марксизм и национальный вопрос" черным по белому написал: "В России роль объединителя национальностей взяли на себя великороссы, имевшие во главе сложившуюся сильную организованную дворянскую бюрократию".
Однако в начале 1930-х впрямую бороться с исторической школой Покровского генсек ещё не мог. И не только потому, что Покровский и его многочисленные ученики опирались на прямую поддержку Ленина и держали в своих руках всю историческую науку вплоть до смерти Покровского. А ещё и потому, что Сталин в эти годы был вынужден бороться сразу на нескольких фронтах:
– обеспечить личное политическое выживание в схватке с людьми из бывшего ближайшего окружения Ленина. А это были не только Троцкий, Зиновьев, Каменев, но и такие, как лично знавший Ленина И.Н. Смирнов ("победитель Колчака", арестован в 1933 г., расстрелян в августе 1936 г., через несколько месяцев были арестованы и расстреляны его жена и дочь, хотя именно под гарантии следствия, что им будет сохранена жизнь, он подписал "признание" в контрреволюционной деятельности), бросивший в 1932 году в узком кругу единомышленников фразу "Сталин думает, что на него не найдется пули";
– укреплять социальную основу политической системы СССР и проводить индустриализацию, готовя Советский Союз к неизбежной войне с Европой и Японией;
– обосновывать концепцию возможности победы социализма в одной отдельно взятой стране в условиях враждебного империалистического окружения и ещё много чего, о чём в Октябре 1917-го никто даже никакого понятия не имел.
Но, тем не менее, как заметил в 1990-е годы в одной из своих работ известный литературовед и великолепный публицист Вадим Кожинов (1930–2001), "в стране уже начался коренной поворот" в области идеологии.
5 марта 1934 г. появилось решение Политбюро по этому вопросу, 20 марта заведующий отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП (б) А.И. Стецкий и А.С. Бубнов получили задание подготовить предложение о составе авторов учебников. 29 марта постановлением Политбюро авторские коллективы были утверждены. В тот же день Политбюро приняло постановление о введении исторических факультетов в составе университетов. Для выработки итогового документа Бубнову было поручено вызвать из ссылки Е.В. Тарле. Два постановления Политбюро от 29 марта были объединены и составили основу постановления Политбюро (и СНК СССР) от 15 мая «О преподавании гражданской истории в школах СССР», текст которого был отредактирован самим Сталиным.
Свидетельство о заседании Политбюро ЦК 29 марта сохранил для истории приглашенный на это действо историк С.А. Пионтковский. Практически на заседании говорил только генсек, пишет он в своем дневнике, так как остальные просто не были готовы к такому идеологическому развороту. "История, – говорил генсек, – должна быть историей. Нужны учебники древнего мира, средних веков, нового времени, история СССР, история колониальных и угнетенных народов. Бубнов сказал, может быть, не СССР, а история народов России? Сталин говорит – нет, история СССР, русский народ в прошлом собирал другие народы, к такому же собирательству он приступил и сейчас. Дальше, между прочим, он сказал, что схема Покровского не марксистская схема, и вся беда пошла от времен влияния Покровского". Как пишет публикатор архивных документов того периода М.В. Зеленов, Сталин готовился к войне и понимал, что необходимо готовить к ней и массовое историческое сознание, для чего необходимо было формировать новую историческую идеологию, охватывающую население страны призывного возраста, т.е. студентов и старших школьников. Удобнее это было сделать через школьные учебники и истфаки университетов. Фигура Покровского не была заменена каким-либо иным авторитетным историком, она была заменена фигурой Сталина. Результат проведенной реформы был оправдан в годы войны: власть смогла сформировать такую идеологию, такое понимание патриотизма, которые объединяли воедино все народы, национальности в борьбе против фашизма. При изменении массового исторического сознания через кинематограф и литературу предпринятые меры дали желаемый эффект.
Как всегда, проведение реформ сопровождалось сменой носителей старых идей на носителей новых идей. Если в 1929–1930 гг. репрессировалась старая профессура, то в 1934–1936 гг. были репрессированы представители «школы Покровского». Смена курса в 1938–1939 гг. также привела к новым репрессиям, поскольку Сталин мыслил персоналистично: новую идеологию должны проводить новые люди.
Следует при этом сделать одно замечание: позицию Сталина идеализировать в этом плане не стоит. Было бы неверным считать Сталина русофилом или русофобом. Он был тем, кем он сам себя долго называл – нацменом.
При этом следует учитывать, что выраженную Сталиным при образовании СССР концепцию автономизации (единая и неделимая в политическом отношении Россия) менее всего следует толковать как русоцентризм, и уж тем более как русофильство.
Нет, конечно, русофилом Сталин никогда не был (хотя и русофобом – тоже). Генсек в своем поведении всегда руководствовался политической целесообразностью. Он всегда был, и при этом и ощущал себя представителем малого народа, присоединившимся (присоединенным) к великому народу и к великой стране.
То есть Иосиф Джугашвили с молоком матери воспринимал как данное свыше, что Россия – это великая, мирового значения держава, а русский народ – это государствообразующая этническая субстанция, которая на протяжении многих веков сумела организовать на огромной географической территории земного шара государство с культурой (духовной, материальной, интеллектуальной, бытовой) мирового значения, и на основе этой культуры этот народ (русский) объединил вокруг себя десятки других народов и их культур, не уничтожая и не разрушая эти последние, а, по мере возможности, сохраняя их.
Как нацмен Иосиф Джугашвили остро ощущал свою грузинскую сущность, любил свой народ, что нашло проявление в его юношеских стихах, но при этом не отторгал ни русский народ, ни русскую культуру. Более того, уже в революционной среде отличаясь от своего близкого окружения глубоким умом и ясным сознанием, он понимал, что единственным (и главным) фактором, обеспечивающим существование этого громадного образования – Российской империи – был всегда русский народ, играющий государствообразующую роль. В отличие от Ленина он хорошо это понимал и потому и выступал за сохранение самого этого народа и формы его естественного существования – Российского государства в его единстве и неделимости.
В новейшей российской историографии есть любители утверждать, что ленинский русофобский взгляд на историческую роль русского народа является вовсе не ленинским, а это, дескать, Троцкий его попутал и даже именно Троцкий-то якобы и подтасовал последние надиктованные вождем статьи с резкими обвинениями в адрес "русских держиморд".
Но дело, конечно, не в спекулятивных попытках во что бы то ни стало "реабилитировать" "вождя мирового пролетариата" в его русофобских позициях. Анализировать нужно факты и только факты. А эти последние показывают, что сталинская концепция "автономизации" была Лениным опрокинута с вполне определенным намерением, и Советский Союз был сознательно создан с колоссальной силы миной, заложенной в его организационно-политическое основание, миной, которая рано или поздно должна была рвануть, и Россию как единое цельное государство русской нации уничтожить. Эта мина и рванула через 67 лет после смерти Ульянова-Ленина.
А Сталин в политике всегда оставался холодным прагматиком. Когда для достижения одной политической цели, которую он сам же для себя и формулировал, было необходимо увеличивать роль русского народа – он это делал. Когда же ему казалось, что пришло время делать обратное – он это и делал.
Так, в мае 1944 года Сталин неожиданно для всех собирает в Кремле ведущих ученых-историков, ставит перед ними задачу разработки нового учебника истории СССР и держит всю эту братию в Москве до сентября. Казалось бы, с чего это вдруг? Идет война, страна задыхается в тисках голода и перенапряжения от необходимости наращивать все виды вооружений, идут тяжелейшие переговоры с англо-американскими союзниками об открытии второго фронта в Европе, а вождя вдруг заинтересовали проблемы преподавания истории. Это закрытое (а правильнее было бы сказать – секретное) многомесячное совещание историков в Кремле, в котором приняли участие все главные идеологи ВКП(б), до сих пор овеяно ореолом загадочности и тайны.
Для непосредственного руководства этим секретным совещанием Сталин в ночь на 12 июля 1944 года внезапно вызвал из Ленинграда А. Жданова. Если судить по открытым ныне архивным документам, не только Жданов, но и никто из штатных идеологов ЦК, что руководили этим совещанием, не могли взять в толк, чего добивается от них вождь. Сам же Сталин так и не раскрыл своих карт. По-видимому, не хотел сказать в открытую, что надо просто поменять акценты в освещении советской истории и поставить во главу угла в развитии и укреплении Советского Союза, собирательную и объединительную роль не русского, как это было в официальной идеологии с 1934 года, а советского народа. Впрямую вождь скажет об этом позже, уже после войны. А особенно активно начнет внедрять этот тезис после 1948 года, когда вовсю начнет разворачиваться "Ленинградское дело".
Ему это нужно будет для того, чтобы внедрить в умы граждан СССР другой свой тезис: в 1941–1945 годах солдаты Красной армии защищали не "матушку Россию", как он в 1942 году сказал У. Черчиллю, а советский строй, то есть созданный им, Сталиным, политический режим.
Жданов же в 1944 году если и понял что-то, то все же, судя по его поведению, не смог переломить себя и прямо написать в проекте резолюции совещания, что все заслуги в развитии СССР принадлежат не русскому, а советскому человеку...
Как видно, не случайно один из сталинских наркомов Вячеслав Молотов уже глубоко постфактум, в 1980 году, вынужден был признать: "Коммунистическая партия так и не смогла решить русский вопрос, то есть, каким должен быть статус РСФСР и русской нации в СССР".
Как на самом деле решался «русский вопрос» в СССР
Едва ли не вся идеологическая политика Иосифа Сталина определялась изменениями его взглядов на роль русской нации в развитии СССР. При этом решающее влияние на грузинского революционера Иосифа Джугашвили оказал человек, которого Сталин, с одной стороны, считал своим Учителем (с большой буквы), а с другой – с политическими взглядами которого по большому счету боролся всю жизнь.
Звали этого человека Владимир Ульянов-Ленин.
По-настоящему это резкое противоречие между двумя вождями начало складываться сразу же после Октябрьской революции 1917 г., апогея достигло в конце 1922 г. в процессе формирования нового государства на пространстве бывшей Российской империи - Советского Союза, а потом то обострялось, то затухало вплоть до самой смерти Сталина.
Впервые проявилось это противоречие уже 2 (15) ноября 1917 г., когда Ленин от имени созданного им правительства Российской Республики собственноручно пишет «Декларацию прав народов России», где фактически было объявлено, что в результате Октябрьской революции на территории бывшей Российской империи закончило своё существование старое государство, базировавшееся на воле русского народа, а на его месте «остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнет и произвол, к раскрепощению которых должно быть приступлено немедленно, освобождение которых должно быть проведено решительно и бесповоротно».
Ленинский документ не оставлял никаких сомнений в том, что отныне с такой категорией, как русская нация, которая, в силу своего объективного положения, ранее объединяла все слои населения российского общества, покончено навсегда, и теперь в стране существует только класс рабочих и крестьян, которому противостоит класс мировой буржуазии.
Это эпохальное новшество исторического значения закреплялось в следующих словах: прежняя Россия «отныне должна быть заменена политикой добровольного и честного союза народов России… Только в результате такого союза, - подчеркивалось в этом эпохальном документе, - могут быть спаяны рабочие и крестьяне народов России в одну революционную силу, способную устоять против всяких покушений со стороны империалистско-аннексионистской буржуазии».
Во исполнение воли первого и второго съездов Советов «Совет народных комиссаров, - заявлялось в Декларации, - решил положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях России следующие начала:
1) Равенство и суверенность народов России.
2) Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств.
3) Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений.
4) Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России» (выделено Лениным).
Документ был подписан следующим образом:
«Именем Республики Российской
Народный комиссар по делам национальностей
Иосиф Джугашвили-Сталин.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)».
Как следовало из текста этого наспех, что называется, на коленке написанного лично Лениным документа (через неделю после революции), главная его цель заключалась в том, чтобы воплотить в действительность давнюю мечту Ульянова-Ленина - покончить в России с государствообразующей ролью русской нации, русского народа, с этой, как он считал, «великодержавной швалью».
Это сильное эмоционально-раздражительное выражение Ульянов-Ленин позволил себе употреблять только в конце 1922 года, уже перед смертью, когда у разрушенного болезнью организма уже не осталось более сил для сдерживания эмоций.
Но в критических условиях политического переворота Ленин в полной мере отдавал себе отчет в том, что в этот момент он ещё не может сделать это только от своего имени, не может свою неприязнь к русскому народу выразить только от себя лично, и потому при подписании Декларации Ильич «спрятался» за Джугашвили-Сталина, поставив его подпись первой.
Ленин, как известно, исходил из того, что русский народ во все века на территории Российской империи занимался только тем, что угнетал все другие народы, и потому при образовании Советского Союза потребовал от ЦК РКП(б), чтобы в новом государственном образовании были заложены гарантии избавления от якобы «векового угнетения» других наций со стороны русских в форме:
- во первых, образования внутри СССР государственной организации наций в форме республик. В том числе и Украины, хотя украинцы никогда никакой государственности в истории не имели.
- во-вторых, в официально закрепленном в Конституции праве выхода из СССР любой национальной союзной республики.
Сталин, как известно, так не считал и предложил совсем другую модель национальных взаимоотношений в создаваемом под неусыпным ленинским контролем СССР: единая и неделимая Россия должна была остаться и дальше в виде РСФСР, а в её состав на положении культурных автономий входят все другие национально организованные образования.
Путем колоссальной силы ленинского натиска идея Сталина была не просто отклонена, но разрушена и уничтожена, а Советский Союз был образован таким, каким его навязал Ленин. И это несмотря на то, что даже верные последователи Ленина признавали, что союзные республики в составе СССР конституируются из народов и наций, которые никогда в своей истории своей государственности не имели.
В 1920-е годы Сталин был вынужден принять все продиктованные ему Лениным условия в отношении умаления политической роли русского народа в становлении русского национального государства и при этом ещё и говоритьвплоть до 1930 года, что «решительная борьба с пережитками великорусского шовинизма является первоочередной задачей нашей партии», так как «великорусский шовинизм отражает стремление отживающих классов господствовавшей ранее великорусской нации вернуть себе утраченные привилегии» (политический отчет ЦК ВКП(б) съезду партии).
В исторической науке главным идеологом в деле материализации ленинской позиции в отношении исторической роли русского народа в эти годы оставался академик М.Н. Покровский, которого благословлял на эту роль сам Ленин. Стоило Покровскому в 1920 году опубликовать книгу «Русская история в самом сжатом очерке», как Ленин тут же её прочитал и 5 декабря 1920 направил академику краткое письмо:
«Тов. М. Н. Покровскому.
Тов. М. Н.! Очень поздравляю вас с успехом: чрезвычайно понравилась мне Ваша новая книга «Рус[ская] И[стория] в сам[ом] сж[атом] оч[ерке]». Оригинальное строение и изложение. Читается с громадным интересом. Надо будет, по-моему, перевести на евр[опейские] языки…».
Сочинения Покровского Сталину, мягко скажем, не импонировали с самого начала, но, зная об активной поддержке основателя послеоктябрьской русской исторической школы со стороны Ленина, он до самой смерти Покровского четко и недвусмысленно поддерживал его позиции, например, позицию историка о том, что в СССР строится не национальное государство, а государство мирового пролетариата. Так, когда немецкий писатель Эмиль Людвиг 13 декабря 1931 года спросил Сталина, допускает ли он параллель между собой и Петром Великим, то генсек не задумываясь пояснил: нет, с Петром он себя не отождествляет, прежде всего потому, что Пётр Великий создавал и укреплял национальное государство помещиков и торговцев, а он, Сталин, ставит себе в задачу «не укрепление какого-либо «национального» государства, а укрепление государства социалистического, и значит, - интернационального, причем всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса».
Не возражал он Покровскому, по крайней мере, публично, и по вопросу исторической роли русского народа.
Покровский четко исходил из того, что не нес в себе русский народ никакой объединительной роли по отношению к другим народам, а был, как и указывал Ленин, «русским держимордой», угнетавшей все другие, присоединенные к русскому государству, народы.
Так, когда председатель ЦИК Грузинской ССР Филипп Махарадзе (1868-1941), известный по конфликту со Сталиным в 1922 году в вопросе по поводу федеративного устройства СССР, в 1931 году имел неосторожность высказаться о положительном историческом взаимоотношении Грузии и России, это так возбудило Покровского, что он на Всесоюзной конференции историков-марксистов тут же взял слово и произнес: «Великорусский шовинизм есть опасность много большая, чем это могут себе представить некоторые представители нацменьшинств. Ещё раз повторяю, я считаю, что т. Махарадзе относится к нам, русским, слишком снисходительно. В прошлом мы, русские, - а я великоросс самый чистокровный, какой только может быть, - в прошлом мы, русские, величайшие грабители, каких только можно себе представить».
Более того, Покровский в основание созданной им схемы исторической науки послеоктябрьского периода заложил тезис о том, что вся русская дореволюционная историческая наука, базирующаяся на трудах Б. Чичерина, С. Соловьева или В. Ключевского, которые отстаивали решающую роль русского народа в становлении и развитии русского национального государства - это наука помещичье-буржуазная, а значит - контрреволюционная.
Прежде всего, утверждал Покровский, она таковой является потому, что в свою основу кладет историю русской нации и русского национального государства. До конца своих дней Покровский боролся за то, чтобы прежнюю историю России заменить на новую - историю народов СССР. Характерный в этом плане пример: в августе 1928 года, когда Покровский задумывал созвать Всесоюзную конференцию историков-марксистов, то включил в структуру конференции секцию «История России». Но через три месяца спохватился и переназвал секцию - «История народов СССР», объяснив это в следующих словах: «От одной из устаревших рубрик нас избавил коммунистический стыд. Мы поняли - чуть-чуть поздно - что термин «русская история» есть контрреволюционный термин, одного издания с трехцветным флагом и «единой неделимой»».
Профессор РГГУ Андрей Львович Юрганов справедливо замечает на этот счет: Покровский табуировал целую область знания об этапах развития русской нации.
А вот Сталина в этом плане мучил не «коммунистический стыд», а нечто иное: его всё больше беспокоило, что строительство Советского Союза, основанное на ленинском принципе размывания государствообразующей роли русского народа, сопровождала оголтелая политическая кампания в прессе союзных республик с призывами покончить с великорусским великодержавным шовинизмом и требования каленым железом выжечь колонизаторское наследие русского царизма, всё ещё живуче присутствующее в поведении русских коммунистов.
Но к началу 1930-х гг. Генеральный секретарь ЦК РКП (б) стал ощущать, что вся политическая организация советского общества стала расползаться по национальным швам.
Жестко контролируемый из Москвы коммунистический партийный аппарат своей политической и идеологической деятельностью, конечно, жестко скреплял советский политический организм по всей стране, но достаточной социальной прочности он всё же не обеспечивал.
То тут, то там постоянно возникали очаги политического недовольства политикой партии. Генсека это сильно беспокоило. Под вопрос вставало существование самого ленинского творения - Советского Союза.
Следует учесть и то, что Сталин в эти годы жил под гнетом полной уверенности, что империалистический Запад вынашивает мысль о скором нападении на «первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян». Дать отпор такому нападению можно было только при условии сохранения крепкого социального единства советского общества. А какая сила могла такое единство обеспечить? Только русский национальный элемент, доля которого в общем составе населения СССР составляла около 70%. Но для того, чтобы русские такую роль на себя приняли осознанно, им нужно было сообщить, что именно они-то и являются ведущей социальной силой советского общества.
И генсек принялся разворачивать идеологическую лодку.
Внешне этот поворот вначале выглядел довольно безобидно. 27 декабря 1929 г. Сталин выступает на конференции аграрников-марксистов и ставит вопрос о «разрыве между практическими успехами и развитием теоретической мысли». Этот упрёк в адрес исторической школы Покровского, заключающийся в том, что предлагаемая им теория перестает отвечать нуждам практического строительства социалистического государства, никто не заметил, включая и самого Покровского. В октябре 1931 г. Сталин пишет письмо «О некоторых вопросах истории большевизма», которое публикуют все московские партийные идеологические журналы (»Большевик», «Пролетарская революция», «Коммунистическое просвещение», «Борьба классов»).
Избрав адресатом своих критических замечаний совершенно третьестепенную фигуру - историка А.Г. Слуцкого (1894-1979, с 1937 по 1957 г. - узник ГУЛАГа), о котором до этого никто даже и слыхом не слыхивал в исторической среде, Сталин на самом-то деле ударил по историкам школы Покровского (а других официальных историков в то время в СССР не было), упрекая их в том, что они свои труды строят на «бумажных документах», а не на реальных делах и практике большевизма. Статья заканчивалась куда как ясным выводом в этом отношении: «…Даже некоторые наши историки, - я говорю об историках без кавычек, о большевистских историках нашей партии, - не свободны от ошибок, льющих воду на мельницу Слуцких и Волосевичей [автор «Курса истории ВКП(б)]. Исключения не составляет здесь, к сожалению, и т. Ярославский, книжки которого по истории ВКП(б), несмотря на их достоинства, содержат ряд ошибок принципиального и исторического характера».
Примечательно, что акцент в этих выступления генсек сделал на тезисе о том, что именно русский народ во всей истории Руси-России всегда выступал в качестве объединяющей силы в формировании российского (русского) государства.
Поэтому не в Емельяна Ярославского (Моисея Губельмана) целил генсек в своих статьях, а в ленинского любимца - М.Н. Покровского. Последний, однако, не понял этого (или не захотел понять). Вплоть до своей смерти (1932 г.) он продолжал доказывать, что верно следовал указаниям Ленина в развитии советской исторической науки. А основной его тезис касался утверждения о том, что в истории России с древнейших времен русский народ никакой объединительной миссии по отношению к другим национальностям (народам) никогда не нёс.
В последнем за 1930 г. номере журнала «Историк-марксист» Покровский в статье «Возникновение Московского государства и «великорусская народность» отрицал даже само существование «великоруссов»: «А кто такие эти «великорусы», - писал он, - …никаких великорусов не было вообще - на этой территории проживали финские племена, автохтоны, которые … финизировали своих поработителей». «Уже Московское великое княжество, не только Московское царство, было «тюрьмою народов». Великороссия построена на костях «инородцев», и едва ли последние много утешены тем, что в жилах великорусов течет 80% их крови. Только окончательное свержение великорусского гнета той силой, которая боролась и борется со всем и всяческим угнетением, могло послужить некоторой расплатой за все страдания, которые причинил им этот гнет».
Сталина просто коробила вся эта русофобская вакханалия.
Ведь он ещё в 1913 году в работе «Марксизм и национальный вопрос» черным по белому написал: «В России роль объединителя национальностей взяли на себя великороссы, имевшие во главе сложившуюся сильную организованную дворянскую бюрократию».
Однако в начале 1930-х впрямую бороться с исторической школой Покровского генсек ещё не мог. И не только потому, что Покровский и его многочисленные ученики опирались на прямую поддержку Ленина и держали в своих руках всю историческую науку вплоть до смерти Покровского. А ещё и потому, что Сталин в эти годы был вынужден бороться сразу на нескольких фронтах:
- обеспечить личное политическое выживание в схватке с людьми из бывшего ближайшего окружения Ленина. А это были не только Троцкий, Зиновьев, Каменев, но и такие, как лично знавший Ленина И.Н. Смирнов («победитель Колчака», арестован в 1933 г., расстрелян в августе 1936 г., через несколько месяцев были арестованы и расстреляны его жена и дочь, хотя именно под гарантии следствия, что им будет сохранена жизнь, он подписал «признание» в контрреволюционной деятельности), бросивший в 1932 году в узком кругу единомышленников фразу «Сталин думает, что на него не найдется пули»;
- укреплять социальную основу политической системы СССР и проводить индустриализацию, готовя Советский Союз к неизбежной войне с Европой и Японией;
- обосновывать концепцию возможности победы социализма в одной отдельно взятой стране в условиях враждебного империалистического окружения и ещё много чего, о чём в Октябре 1917-го никто даже никакого понятия не имел.
Но, тем не менее, как заметил в 1990-е годы в одной из своих работ известный литературовед и великолепный публицист Вадим Кожинов (1930-2001), «в стране уже начался коренной поворот» в области идеологии.
5 марта 1934 г. появилось решение Политбюро по этому вопросу, 20 марта заведующий отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП (б) А.И. Стецкий и А.С. Бубнов получили задание подготовить предложение о составе авторов учебников. 29 марта постановлением Политбюро авторские коллективы были утверждены. В тот же день Политбюро приняло постановление о введении исторических факультетов в составе университетов. Для выработки итогового документа Бубнову было поручено вызвать из ссылки Е.В. Тарле. Два постановления Политбюро от 29 марта были объединены и со-ставили основу постановления Политбюро (и СНК СССР) от 15 мая «О преподавании гражданской истории в школах СССР», текст которого был отредактирован самим Сталиным.
Свидетельство о заседании Политбюро ЦК 29 марта сохранил для истории приглашенный на это действо историк С.А. Пионтковский. Практически на заседании говорил только генсек, пишет он в своем дневнике, так как остальные просто не были готовы к такому идеологическому развороту. «История, - говорил генсек, - должна быть историей. Нужны учебники древнего мира, средних веков, нового времени, история СССР, история колониальных и угнетенных народов. Бубнов сказал, может быть, не СССР, а история народов России?
Сталин говорит - нет, история СССР, русский народ в прошлом собирал другие народы, к такому же собирательству он приступил и сейчас. Дальше, между прочим, он сказал, что схема Покровского не марксистская схема, и вся беда пошла от времен влияния Покровского».
Как пишет публикатор архивных документов того периода М.В. Зеленов, Сталин готовился к войне и понимал, что необходимо готовить к ней и массовое историческое сознание, для чего необходимо было формировать новую историческую идеологию, охватывающую население страны призыв-ного возраста, т.е. студентов и старших школьников. Удобнее это было сделать через школьные учебники и истфаки университетов. Фигура Покровского не была заменена ка-ким-либо иным авторитетным историком, она была заменена фигурой Сталина.
Результат проведенной реформы был оправдан в годы войны: власть смогла сформировать такую идеологию, такое понимание патриотизма, которые объединяли воедино все народы, национальности в борьбе против фашизма. При изменении массового исторического созна-ния через кинематограф и литературу предпринятые меры дали желаемый эффект.
Как всегда, проведение реформ сопровождалось сменой носителей старых идей на носителей новых идей. Если в 1929-1930 гг. репрессировалась старая профессура, то в 1934-1936 гг. были репрессированы представители «школы Покровского». Смена курса в 1938-1939 гг. также привела к новым репрессиям, поскольку Сталин мыслил персоналистично: новую идеологию должны проводить новые люди.
Следует при этом сделать одно замечание: позицию Сталина идеализировать в этом плане не стоит. Было бы неверным считать Сталина русофилом или русофобом. Он был тем, кем он сам себя долго называл - нацменом.
При этом следует учитывать, что выраженную Сталиным при образовании СССР концепцию автономизации (единая и неделимая в политическом отношении Россия) менее всего следует толковать как русоцентризм, и уж тем более как русофильство.
Нет, конечно, русофилом Сталин никогда не был (хотя и русофобом - тоже). Генсек в своем поведении всегда руководствовался политической целесообразностью. Он всегда был, и при этом и ощущал себя представителем малого народа, присоединившимся (присоединенным) к великому народу и к великой стране.
То есть Иосиф Джугашвили с молоком матери воспринимал как данное свыше, что Россия - это великая, мирового значения держава, а русский народ - это государствообразующая этническая субстанция, которая на протяжении многих веков сумела организовать на огромной географической территории земного шара государство с культурой (духовной, материальной, интеллектуальной, бытовой) мирового значения, и на основе этой культуры этот народ (русский) объединил вокруг себя десятки других народов и их культур, не уничтожая и не разрушая эти последние, а, по мере возможности, сохраняя их.
Иосиф Джугашвили остро ощущал свою грузинскую сущность, любил свой народ, что нашло проявление в его юношеских стихах, но при этом не отторгал ни русский народ, ни русскую культуру. Более того, уже в революционной среде отличаясь от своего близкого окружения глубоким умом и ясным сознанием, он понимал, что единственным (и главным) фактором, обеспечивающим существование этого громадного образования - Российской империи - был всегда русский народ, играющий государствообразующую роль. В отличие от Ленина он хорошо это понимал и потому и выступал за сохранение самого этого народа и формы его естественного существования - Российского государства в его единстве и неделимости.
В новейшей российской историографии есть любители утверждать, что ленинский русофобский взгляд на историческую роль русского народа является вовсе не ленинским, а это, дескать, Троцкий его попутал и даже именно Троцкий-то якобы и подтасовал последние надиктованные вождем статьи с резкими обвинениями в адрес «русских держиморд».
Но дело, конечно, не в спекулятивных попытках во что бы то ни стало «реабилитировать» «вождя мирового пролетариата» в его русофобских позициях. Анализировать нужно факты и только факты.
А Сталин в политике всегда оставался холодным прагматиком. Когда для достижения одной политической цели, которую он сам же для себя и формулировал, было необходимо увеличивать роль русского народа - он это делал. Когда же ему казалось, что пришло время делать обратное - он это и делал.
Так, в мае 1944 года Сталин неожиданно для всех собирает в Кремле ведущих ученых-историков, ставит перед ними задачу разработки нового учебника истории СССР и держит всех их в Москве до сентября. Казалось бы, с чего это вдруг?
Идет война, страна задыхается в тисках голода и перенапряжения от необходимости наращивать все виды вооружений, идут тяжелейшие переговоры с англо-американскими союзниками об открытии второго фронта в Европе, а вождя вдруг заинтересовали проблемы преподавания истории. Это закрытое (а правильнее было бы сказать - секретное) многомесячное совещание историков в Кремле, в котором приняли участие все главные идеологи ВКП(б), до сих пор овеяно ореолом загадочности и тайны.
Для непосредственного руководства этим секретным совещанием Сталин в ночь на 12 июля 1944 года внезапно вызвал из Ленинграда А. Жданова. Если судить по открытым ныне архивным документам, не только Жданов, но и никто из штатных идеологов ЦК, что руководили этим совещанием, не могли взять в толк, чего добивается от них вождь. Сам же Сталин так и не раскрыл своих карт. По-видимому, не хотел сказать в открытую, что надо просто поменять акценты в освещении советской истории и поставить во главу угла в развитии и укреплении Советского Союза, собирательную и объединительную роль не русского, как это было в официальной идеологии с 1934 года, а советского народа.
Впрямую вождь скажет об этом позже, уже после войны. А особенно активно начнет внедрять этот тезис после 1948 года, когда вовсю начнет разворачиваться «Ленинградское дело».
Ему это нужно будет для того, чтобы внедрить в умы граждан СССР другой свой тезис: в 1941-1945 годах солдаты Красной армии защищали не «матушку Россию», как он в 1942 году сказал У. Черчиллю, а советский строй, то есть созданный им, Сталиным, политический режим.
Жданов же в 1944 году если и понял что-то, то все же, судя по его поведению, не смог переломить себя и прямо написать в проекте резолюции совещания, что все заслуги в развитии СССР принадлежат не русскому, а советскому человеку…
Как видно, не случайно один из сталинских наркомов Вячеслав Молотов уже глубоко постфактум, в 1980 году, вынужден был признать: «Коммунистическая партия так и не смогла решить русский вопрос, то есть, каким должен быть статус РСФСР и русской нации в СССР».
Владимир Кузнечевский,
В Польше не забывают про авиакатастрофу 2010 года в Смоленске и считают недостаточными извинения со стороны России за Катынь. Но все же отношение к нашей стране со стороны простых поляков гораздо лучше, чем со стороны элиты. Член Партии Роста, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич рассказал о том, как Москве и Варшаве найти точки соприкосновения и начать дружить.
- Неужели ненависть к России настолько сильна, что в польских соцсетях позвол яют себе оскорбительные высказывания по поводу крушения самолета возле Сочи?
Тема авиакатастрофы для поляков весьма чувствительна. Катастрофа Ту-154 10 апреля 2010 года в Смоленске, когда погибла правительственная делегация, включая президента Леха Качинского, естественно, сблизила в какой-то степени моральную реакцию.
Кроме того, нужно понимать, что Польша - страна католическая не только по заявлениям, но и по характеру. Христианское милосердие плюс празднование Рождества. Поэтому какого-то очень негативного фона в польских форумах или в газетах по поводу катастрофы не было.
Другое дело, что несколькими днями ранее у нас была другая трагедия - убийство нашего посла в Анкаре, и там, конечно, реакция была несколько другой, потому что это уже сугубо политическое событие. Оно отражало общий, к сожалению, негативных тренд текущих российско-польских отношений.
- Что именно по поводу убийства нашего посла в Турции писали польские блогеры?
Что это расплата за нарушение прав человека и так далее. Наверно, самая вопиющая трактовка нашла отражение на страницах газеты Rzeczpospolita, где убийство было отнесено в раздел преступность. То есть имело место серьезное понижение статуса события, особенно на фоне теракта в Берлине.
- Они принесли извинения или так это и оставили?
Нет, зачем? Российская аудитория практически не читает польские газеты, реагирует на это мало, поэтому какого-то скандала не получилось, а польская общественность, читающая газету Rzeczpospolita, восприняла это как что-то само собой разумеющееся, к сожалению.
«Путинизация» Польши: «нам очень жаль, что у нас нет Путина. Мы вам завидуем»
- Как писал Ницше, злорадстсвующие люди сами недовольны собственным положением. Возможно, в данном случае они с вою ничтожность выражают в радости , что у их врага произошло какое-то несчастье?
Я бы все-таки, наверное, больше говорил об исторических событиях. Естественно, религия в данном случае была одним из факторов, который привел к тем историческим событиям, которые были в наших отношениях. Прежде всего надо упомянуть, конечно, события в Катынском лесу. Они в существенной степени омрачают на сегодняшний день наши отношения. Для поляков Катынь - это то, что для русских «Бессмертный полк». Это деды, братья, мужья, которые не вернулись и которые при этом защищали свое отечество.
В Польше считают недостаточными извинения со стороны России за данное событие. Плюс влияет такой аспект как постоянно возникающий в России ревизионизм. Попытки группы покойного Илюшина оспорить версию причастности НКВД к данным расстрелам. Они, естественно, имеют свое влияние до сих пор.
- В конце 1980 годов в Германии я встречался с группой моих ровесников-поляков. К огда упомянул великого русского полководца Александра Суворова, в ответ одна полька сказала: «Он расстреливал польское восстание». Наверно, с тоит заглянуть дальше Катыни, потому что Катынь ведь тоже неслучайно произошла ? Вспомнить п оражение в 1920-м году Красной армии под Варшавой…
Естественно, Польша и Россия исторически сражались за то, кто будет строить свой цивилизационный проект на землях Восточной Европы.
- Поляки в Кремле…
Да, 1612 год. Поляки в Кремле защищали права избранного на русский престол царя Владислава Вазы. Долгое время Польша вообще оспаривала правомерность Романовых на престол, потому что считала законным русским царем к тому моменту короля Владислава IV. Безусловно, имела место борьба за малоросские земли в ходе восстания Богдана Хмельницкого, соответственно, участие Москвы в данных противодействиях и последующее уже присоединение сперва Левобережья, а потом Правобережья Днепра к России.
Но насколько можно преодолеть исторические разногласия? К каким-то отдаленным событиям истории можно относиться как к историческому факту: можно симпатизировать или не симпатизировать, но он не влияет на текущие события. Отношения, связанные с близкой историей, как я уже сказал, когда люди имеют память о конкретном пострадавшем человеке, от тех или иных событий, - это совсем другое.
Историю мы уже не сможем переписать, мы единственное, что можем, не замалчивать ее. Нужно говорить правду, хотя она может сблизить, а может и разъединить. Вспомним пример нынешней Украины со знаменитым геноцидом, который по полякам устраивали.
Классики об «Украинском вопросе»
Некогда Польша, в отличие от прибалтийских стран-лимитрофов и особенно Украины, все-таки была великим государством. Может быть, от этого еще комплексы поляков?
У России есть определенное чувство превосходства по отношению к Польше, которое зачастую не имеет под собой основания. Оно не вполне оправданно в той мере, в которой оно проявляется.
Во-первых, в Польше проживают 38 миллионов человек. Это далеко не маленькая страна. Это единственная страна в Европе, которая пережила два кризиса - 2008 года и текущий кризис - без падения экономики. Это одна из наиболее экономически динамично развивающихся стран в Европейском союзе. Это страна, которая занимается активной экономической экспансией на тех территориях, которые мы считаем своим ближним зарубежьем - на Украине, в Белоруссии.
Если вы в Белоруссии посетите гипермаркеты, вы там увидите гораздо больше польских товаров, чем российских. Вы спросили, что нас может сближать? Здесь вопрос, наверное, в том тренде, который определяет текущая польская элита.
До недавних событий, когда была заблокирована трибуна польского сейма сторонниками оппозиции, была предпринята попытка польского майдана, я бы это так назвал. Естественно, понятно, кем инспирированная. И поляки это тоже понимают. Инспирированная против достаточно правого и проамериканского правительства.
Пересмотр взглядов этого правительства на польско-российские отношения в текущей ситуации вполне возможен, если со стороны России будут конструктивные предложения на этот счет. Правительство Ярослава Качинского сейчас де-факто пересматривает свой взгляд на отношения с США под влиянием недавних событий.
После Второй мировой войны Советский Союз нарезал германские земли полякам. Столько жизней советских солдат мы отдали за свободу Польши, которая теперь динамично развивается, а они сносят памятники нашим воинам.
Не бывает всегда одной единственной правой стороны. Другое дело, что действительно многие события тех и предыдущих лет объективно требовали от России тех действий, которые Россия совершала. Мы не могли себе позволить существования слабой Польши у себя в подбрюшье, потому что этот факт неизменно был бы использован против нас Германией и Австро-Венгрией.
Я еще замечу, кстати, важный момент по поводу войны за Польшу, - это варшавское восстание. То, что советские войска стояли на другом берегу Вислы и смотрели, как немцы уничтожают Варшаву.
Польский журналист Томаш Мацейчук: украинцы доказали, что они полякам не братья
- Спорный вопрос. Все-таки англичане подначали поляков начать восстание.
Восстание было начато, чтобы иммигрантское правительство могло вернуться в Варшаву и разговаривать об освобождении Польши с Советским Союзом.
- Все равно своей жизнью заплатили русские солдаты.
Безусловно. Но здесь вопрос о восприятии людьми. Мы можем искать точки соприкосновения и договариваться, выстраивать новые отношения, а можем искать точки разъединения.
Когда мы акцентируем внимание на любом историческом факте с позиции «давайте настоим на своем», то невольно отталкиваем от себя то или иное сообщество людей. И восприятие многих исторических событий, к сожалению, диаметрально противоположно по разные берега Буга. Опять-таки поляки не говорят нам «спасибо», за то, что при диктатуре Ярузельского Кремль не ввел танки…
Вероятно, наша сторона более права, чем та сторона. Это объективный факт, но если мы хотим понять ту сторону, мы должны понимать как аргументацию, так и мотив. Искать, повторюсь, точки сближения не в истории, а в сегодняшних интересах, в том числе и на исторической почве.
Фильм о Волынской резне сейчас в польском прокате собирает больше, чем (пропорционально населению) российские «28 панфиловцев». Эта тема в польском сознании очень острая. И тот факт, что Советская армия остановила бандеровские безобразия, в польском сознании присутствует.
Вопрос в том, чтобы Украина, в отношениях с которой заинтересованы как в Польше, так и в России, превратилась в договороспособное государство. Вот, кстати, точка для конструктивного разговора. Не российская была инициатива этот диалог прервать. Это действия польского, немецкого и французского министров иностранных дел, которые завизировали соглашение Януковича с оппозицией, а потом «забыли» о нем на следующий день.
Сейчас в Польше сменилось правительство. Комаровский, бывший президент Польши, прилетел в Киев, выступил в Верховной Раде о дружбе во имя европейских ценностей, а через несколько часов Верховная Рада объявила бандеровцев героями Украины. Из основного кандидата в президенты Комаровский в Варшаву вернулся аутсайдером.
Точки для соприкосновения есть, их нужно искать и конструктивно отрабатывать. Не будем забывать, у нас в Польше замечательный экономический анклав - Калининградская область с нашей стороны, и, соответственно, так называемое Троемясто с польской стороны - Гданьск, Гдыня, Сопот. Это экономические ворота сразу в два крупных экономических союза - в Европейской союз и в Евразийский экономический союз. Эти возможности можно и нужно использовать.
На последней пресс-конференции Владимира Владимировича Путина польский журналист снова поднял тему самолета с Качиньским. Путин, видимо, не сдержался, ответил немного резко, потому что сколько можно талдычить одно и тоже.
Когда мы говорим о нации в целом, это небольшой процент. Просто этот процент, к сожалению, сейчас находится в общественном тренде. На сегодняшний день ситуация несколько поменялась.
Проклятие Восточной Европы
Я считаю, что русофобский тренд в Польше будет сходить на нет. Во-первых, под влиянием экономических обстоятельств, во-вторых, под влиянием событий на Украине, потому что, назовем вещи своими именами, бардак, который присутствует сейчас на Украине, будет сближать позиции сторон. Поляки заинтересованы в том, чтобы у своих границ иметь стабильное и нейтральное государство.
Как Украина не нужна Польше в Европейском союзе, так и России она там тоже не нужна. Экономические интересы Польши и Украины, в случае принятия Украины в Европейский союз, будут антагонистичны, потому что Польша на сегодняшний день - основной поставщик рабочей силы как в Великобританию, так и в Германию. Польша получает наибольшее количество дотаций Европейского союза на сегодняшний день. Одно время экономическая ситуация в России и Польше была одинаковой…
- А потом в Польше был рывок?
- Все-таки Россия побольше, и врагов у нас побольше.
У нас экономика помощнее. Россия все-таки способна на гораздо большее. Если мы говорим о Польше, то это легкая промышленность. В первую очередь, пищевая, химическая. Я обращу внимание на такой важный общемировой тренд, как поворот направо - Брексит, победа Трампа, безусловно ожидаемый успех правых во Франции, будь это Ле Пен или Фийон. Польша находится в этом тренде. Там правые пришли к власти.
Недавно партия «Единая Россия» заключила соглашение даже с Австрийской партией свободы (Freiheitliche Partei Österreichs). То есть выстраивается определенная, скажем так, ось, и во всем мире Россию и Владимира Путина воспринимают как одного из столпов этого процесса. У нас есть точки соприкосновения: идеологические, экономические и исторические. Главное, захотеть это делать, захотеть разговаривать.
- А как простые люди относятся к России?
Вы знаете, на фоне простого обывателя отношения России и Польши в разы лучше, чем отношения политиков. Во всяком случае, я никогда не сталкивался с отрицательным отношением к России на бытовом уровне в Польше. Когда показывают один случай, что какой-то ресторатор не хочет обслуживать русских - это выхваченный из событийной ленты эпизод.
Два показательных примера. Барбара Брыльска - звезда нашей «Иронии судьбы» - жаловалась, что в Польше ее за это сильно невзлюбили. Великая певица Анна Герман также получила свою долю от русофобов.
Ну, Анна Герман - немка. Но здесь вопрос, к сожалению, проявлений бытовой русофобии. Они на сегодняшний день уже сходят на нет. Ненависть ведь нерациональна, ее рациональными мотивами не снизить. Но то поколение, которое сейчас приходит, с ним можно и нужно работать. Положительный образ России можно и нужно формировать. И эта работа обязательно даст положительный эффект, если Россия будет предлагать конструктивную повестку.
С мечтами об Украине, поляки остались у разбитого корыта
Русские польской культурой всегда восхищались. Вспомнить хотя бы телевизионный «Кабачок «13 стульев», который возник на основе польских журналов. А ранее первые российские западники все из Польши заимствовали. Много польских слов вошло в русский язык.
Вы правильно сказали, что русско-польские отношения в XIX веке - это не только восстания. Это огромное количество поляков-русофилов, которые переехали в Россию. Многие из тех, у кого фамилии заканчиваются на «ий» - это потомки поляков. Я сам из Перми, и там огромное наследие польской культуры. Огромное количество поляков в свое время переезжало на Урал.
Эти тенденции можно и нужно возрождать, восстанавливать. В Польше есть русофилы. Большое количество русофилов. Им также нужно оказывать определенную поддержку со стороны российского общественного мнения, российских медийных средств. Это так называемая soft power, «мягкая сила», ее никто не отменял.
Подпишитесь на нас





 Конспект урока по математике "Квадратный трёхчлен и его корни"
Конспект урока по математике "Квадратный трёхчлен и его корни" Огэ какие предметы сдавать
Огэ какие предметы сдавать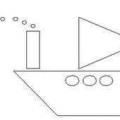 Входная диагностика для будущего первоклассника Входная диагностическая работа по музыке
Входная диагностика для будущего первоклассника Входная диагностическая работа по музыке