Японская интервенция. Японская интервенция на дальнем востоке
Что бы было понятно содержание, описанное в дневниках Федора Акимовича Токарева, я вкратце изложу историческую справку о важнейших событиях на Дальнем Востоке и в Амурской области, в частности периода 1918 -1920 годов.
25 октября 1917 года в Петрограде в результате вооруженного восстания было свергнуто Временное правительство и власть перешла к Петроградскому Совету рабочих и крестьянских депутатов. Вслед за победой в столице начался переход власти в руки Советов по всей стране. В городах Приморской области – Владивостоке, Сучане, Хабаровске Советы овладели властью раньше, чем в Амурской области. Там был более многочисленный, организованный и сплоченный рабочий класс.
Власть к Советам на территории Амурской области переходила поэтапно. В Благовещенске она фактически перешла только 4 января 1918 года, в Краснояровской волости – к концу января, в Зейском горном округе -13 февраля 1918 года. Председателем Зейского Совета стал Г.П. Боровинский, его заместителем Ф.И Кошелев, секретарем Н.П.Малых. В народе этот Совет называть стали «Зейской республикой». На золотопромышленников и торговцев, прятавших продовольствие и товары, был наложен штраф в размере 250 тысяч рублей. Их газета «Голос тайги» была закрыта. Совет стал выпускать свою газету «Таёжную правду». В марте Совет национализировал крупные предприятия города и прииски горного округа. Такая же участь постигла и магазин Чурина. Совет начал строить мельницу.
Если в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и других городах Дальнего Востока, находящихся в зоне железнодорожной магистрали была острая нехватка денежных знаков, то Зейское казначейство к марту 1918 года оказалось совсем пустым. Особенно острая нужда в денежных знаках, возникла, когда начался промывочный сезон на золотых приисках. Старатели несли драгоценный металл, а расплачиваться с ними было нечем. Хабаровск помощь не мог оказать из –за весеннего бездорожья.
Тогда Зейский исполком Совета решил выпускать вместо денег собственные чеки. В протоколе заседания Зейского исполкома от 21 апреля 1918 года говорится: «Обсудили: 1.О выпуске чеков ввиду отсутствия денежных знаков в местном казначействе. Постановлено единогласно. Выпустить чеки а) 300 штук по 50 рублей на сумму 15 000, 700 штук по 100 рублей на сумму 70 000 рублей,1000 штук по 250 рублей на сумму 250 000 рублей,500 штук по 500 рублей на сумму 250 000 рублей. Итого 2 500 штук на сумму 585 000 рублей.
2.)Чеки будут подписываться: председателем исполкома Боровинским, комиссаром финансов Жегалкиным, казначеем Протопоповым.
Чтобы заготовить чеки, Зейское казначейство закрылось на 1 день. Весь этот день на бланках обычных банковских чеков работники казначейства ставили штамп «Чек обеспечен золотом» и на обороте «Этот чек имеет хождение наравне с государственными кредитными билетами до 1 июня с.г. и после 1 июня Зейское казначейство будет обменивать чек на кредитные билеты рубль за рубль».
Номинал на чеках ставили от руки, кроме этого был пробит перфоратором. 2500 раз расписался каждый из этих трёх лиц в этот день на чеках.
В мае Зейские чеки выпускаются в обращение, их охотно принимали не только население города, но и работники приисков в обмен на золото. Имеется также протокол № 67 заседания Зейского исполкома от 13 сентября 1918 года, на котором вновь рассматривался вопрос о выпуске второй партии Зейских чеков. Сделать это не удалось из – за оккупации территории японцами. Известно, что комиссар
финансов во время оккупации застрелился. фото 11.Зейский чек.
На 4-м областном съезде крестьянских депутатов, состоявшемся 25 февраля, была принята резолюция о полном переходе на территории Амурской области власти в руки Советов.
Уже с первых дней деятельности новой власти чиновники земских учреждений, отделов объявили бойкот. Они категорически отказывались выполнять решения областного съезда крестьянских и солдатских депутатов. 4 марта в Благовещенске начался контрреволюционный «гамовский» мятеж..Это было первое на Дальнем Востоке вооруженное сопротивление новой власти. На решимость местных реакционных сил повлияло то, что во Владивостокском порту появились японские, американские и английские военные корабли. В начале марта уполномоченный особой японской миссии предъявил войсковому правлению Амурского казачьего войска требование, что бы казаки уничтожили советскую власть в области. Заявили, что в противном случае это сделают они сами. Это была прямая угроза интервенцией.
В ночь с 3 на 4 апреля 1918 года во Владивостоке было совершено провокационное нападение на японскую контору «Исидо». Убиты 2 работника и 1 ранен. Эта провокация послужила предлогом для высадки японских войск. Командующий японской эскадрой Като опубликовал воззвание, в котором заверял жителей Владивостока о том, что высадка произведена с целью «защиты японских подданных».
Иностранные военные корабли ещё с декабря 1917 года стояли в бухте Золотой Рог и лишь ждали удобного момента. Такой «удобный» момент и был создан. Уже на следующий день -5 апреля произошла высадка десанта. В это же время из Маньчжурии в Забайкалье вторгся белогвардейский отряд атамана Семенова. В конце мая 1918 года командование чехословацкого корпуса бывших военнопленных подняло мятеж. До этого эшелоны корпуса чехословаков следовало во Владивосток для отправки затем морским путем на родину. Около 15 тысяч их уже находилось во Владивостоке. А остальные – примерно 40 – 50 тысяч были в пути – в эшелонах по железнодорожной линии от Пензы до Владивостока. Такая растянутость эшелона дала возможность командованию корпуса в сговоре с белогвардейскими организациями поднять мятеж одновременно в ряде основных центров Сибири. В результате выступления белочехов Иркутск и весь Дальний Восток оказались отрезанными от Центра России.
К осени 1918 года Советская власть на Дальнем Востоке была подавлена вооруженной силой интервентов – Англии, Франции, США и Японии. Эти страны намеревались захватить наш богатый край и превратить его в свою колонию. Они поделили Дальний Восток на сферы влияния. На Приамурье претендовала Япония.
Амурская область оставалась последним оплотом Советов, или как ещё называли «Красным островом». На её территории разместились беженцы Восточной Сибири, Забайкалья и Приморья – руководители и партийный аппарат, отступившие красногвардейские части Забайкальского и Уссурийского фронтов.
Японские войска двинулись и на Амурскую область. Вторжение войск интервентов осуществлялось по трем направлениям: из Приморья двигался сводный отряд из японских, американских, китайских солдат и белогвардейцев по командованием японского генерала ООЙ; из Северной Маньчжурии на Благовещенск – через город Хэйхэ и из Забайкалья – 3 японская дивизия. Вместе с японцами из Маньчжурии двигались и русские белогвардейцы. 18 сентября 1918 года ими был взят город Благовещенск, 19 – 22 сентября – Свободный – Зея. К концу сентября интервенты захватили в свои руки главные экономические районы, железную дорогу, речной флот, средства связи и прииски. В городах и селах Амурской области разместились группировки японо – белогвардейских войск общей численностью до 30 тысяч.
Еще в конце августа Амурский облисполком вынес решение перейти к партизанской войне. Для воинских частей и советских работников, отступавших из Сибири, Забайкалья и Приморья, в районе Дамбуков, Бомнака, прииска Владимирского (нынешний Кировский поселок) были созданы партизанские базы. Туда завозили продовольствие, обмундирование, медикаменты. Кроме того, Зейский исполком снабжал продовольствием и деньгами отступающие в тайгу красногвардейские части, выдавал бойцам и командирам паспорта дореволюционного периода.
20 сентября состоялось последнее заседание Зейского исполкома. Его председатель Боровинский зачитал обращение к трудящимся округа с призывом объединиться для защиты власти трудящихся.
В этот же день все члены исполкома ушли в тайгу. Рано утром 21 сентября в город ворвались японцы. Они открыли орудийный и пулеметный огонь по проходящему мимо пароходу с красногвардейцами. С попавшими в их руки жестоко расправились. Вместе с интервентами в Зею пришли и черняевские казаки. Японцы поймали и убили на кладбище А.П. Белоусова. П.П. Малых был арестован недалеко от города казаками, доставлен в город и на глазах народа зарублен шашками.
События того периода нашли своё отражение в воспоминаниях непосредственных участников. Г.Боровинский. «Таёжные походы. Сборник эпизодов из истории гражданской войны на Дальнем Востоке» под редакцией М.Горького, П.Постышева, И Минца. Издательство «История гражданской войны», М.1935 год.
«Тяжёлые дни наступили к осени 1918 года. Ежедневно телеграф приносил тревожные вести из Хабаровска. После краевого съезда советов 25 августа 1918 года стало ясно, что интервенция затянется, что рабочему и крестьянину Дальнего Востока предстоит выдержать тяжёлую борьбу за народную власть. Наш Зейский Совет всю свою работу перевёл на военную ногу. Были приняты энергичные меры к формированию Красной гвардии из горнорабочих и грузчиков. В конце августа первые красногвардейские отряды горняков города Зеи были отправлены на фронт.
В сентябре 1918 года под натиском интервентских войск после отчаянной и жестокой борьбы наши красные отряды были вынуждены отступить на запад, вглубь тайги, по Тыгдинскому тракту, по реке Зее. На рассвете 10 сентября по улице города Зеи, громыхая, проскакала тяжёлая батарея, за ней конница, а затем пошли отряды красногвардейцев и красноармейцев, состоящих частью из солдат – фронтовиков, частью из горнорабочих и крестьян. Прибывшие отряды быстро разместились по квартирам.
Вскоре после прибытия красных отрядов Зейским исполкомом была получена телеграмма от председателя Свободненского исполкома Попова, который сообщал, что Хабаровск уже занят интервентами и что Благовещенск накануне падения, так как японцы находятся на подступах к городу.
В это время в Благовещенске шла лихорадочная работа: грузили пароходы оружием, продовольствием, медикаментами для поспешной отправки в город Зею и Бомнак в верховьях реки Зеи. Из Свободного также были отправлены вверх по Зее большие транспорты оружия и припасов для раздачи рабочим – горнякам и крестьянам прибрежных селений. Первый транспорт с оружием имел разгрузочные пункты – Мазаново, Гоголевка, Ямполь и Овсянка. Бесконечные вереницы крестьянских подвод развозили оружие в раздаточные пункты
Задача нашего красного штаба по вооружению рабочих – горняков и крестьян была выполнена блестяще Перед Зейским исполкомом стояла трудная и ответственная задача по переотправке красных частей. Для этой цели было заготовлено огромное количество паспортов старого образца и членских книжек Зейского союза горнорабочих, которыми снабжали товарищей, и отправляли их на прииски. Часть отряда была переброшена на пароход в Бомнак и Дамбуки.
После того, как Благовещенск был занят 18 сентября японцами и белой сворой, перед нами стала угроза быть окружёнными на Зее, так как японцы могли двинуться на Зею по двум путям – со стороны Рухлово (нынешнее Сковородино) по железной дороге и по Тыгдинскому тракту.
Однако организовать полную оборону города Зеи, этого единственного и последнего опорного пункта, который находился в руках советов, нам не удалось. Силы защитников советской власти оказались очень слабыми.. Крестьяне колебались несмотря на горячие призывы большевиков.
Создалось тяжёлое положение: при таких силах, которыми располагал наш штаб, немыслимо было вести борьбу дальше.. В связи с этим решено было погрузить на пароход оружие, съестные припасы и вместе с отрядами отправить вверх по реке Зее в Бомнак с таким расчётом, чтобы там перезимовать и с весны уже начать партизанскую борьбу вновь.
В ночь на 22 сентября 1918 года на совещании членов Зейского исполкома решено было тотчас же переправиться на левый берег Зеи и двинуться в тайгу, так как по полученным сведениям японцы должны были занять город утром. На другом берегу я и товарищ Кошелев заметили на рассвете, что идёт пароход с баржей по направлению к городу Зее. По развевающемуся красному флагу мы заключили, что на нём находятся красногвардейцы. Не успел пароход поравняться с крайними строениями, как вдруг с правого берега его стали обстреливать артиллерийским и ружейным огнём. У нас не было никакого сомнения, что город уже был взят японцами, которые и открыли стрельбу.
Красногвардейцы ответили залпами ружейного огня и несколькими выстрелами из орудий, находившихся на барже, но очевидно вследствие качки не могли взять правильного прицела. Вскоре от снаряда японцев загорелся пароход, а затем и баржа. После того как пароход сделал крутой поворот и буквально выбросился на левый берег реки Зеи, красногвардейцы, отстреливаясь, стали выскакивать на берег, спеша укрыться в близлежащем лесу. Пароход и баржа пылали огнём. Потом мы узнали, что среди красноармейцев было много убитых, раненых, а некоторые из них, не успев выскочить, сгорели вместе с баржей и пароходом. Японцы и белогвардейцы, однако, не посмели преследовать красногвардейцев, ограничившись тем, что зверски добивали раненых.
В эти же дни погибли и наши товарищи, члены Зейского исполкома: Малых и Белоусов были зверски зарублены Черняевскими казаками, товарищи Жуков, Гайдуков и Шпаков были расстреляны японцами».
Грабежи, насилие и расстрел сопровождали каждый шаг интервентов. Без суда и следствия казнили всех сочувствующих Советской власти. Так на Золотой Горе японцы арестовали несколько десятков рабочих. Трое были зарублены шашками, в посёлке Дамбуки интервенты расстреляли 14 человек, на Владимирском -17.
Бесчинства оккупантов и казачества вызывали ненависть у местного населения. Стали формироваться группы сопротивления, которые затем переросли в партизанские отряды. Одним из первых был организован такой отряд, возглавляемый первым председателем Ново - Ямпольского сельского Совета Михаилом Сугайло и политическим ссыльным Дудиным Иваном Елизаровичем.
В деревнях Овсянковской волости сложились группы Василия Аксёнова, Давыда Файнберга, Таюрского, Фёдора Кошелева и анархистов Петра, Ивана и Андрея Богдановых. В верховьях Зеи действовал ещё один партизанский отряд Тимптоно – Владимирский повстанческий. В него входили рабочие с приисков, красногвардейцы, которые осенью 1918 года при вынужденном отступлении Красной Армии из – под Читы и Благовещенска пробрались на пароходах вверх по Зее до Бомнака, и восставших солдат, насильно мобилизованных в колчаковскую армию с приисков Тимптон и Владимирский. Во главе отряда был большевик Скрицкий.
О том, как развивались дальше события на Зейской земле рассказывает очевидец тех событий Ф.А. Токарев.
«В 1918 году хотели уже переходить в новый дом. Но в это время в Овсянку пришли японцы. Многие жители села, боясь, уехали на заимки. Японские солдаты, как только вошли в село, сразу на берегу реки Зея стали копать окопы. Они знали, что по Зее снизу идет пароход с баржей с красногвардейцами. Но парохода не дождались, и на второй день ушли в город Зею. Перед приходом японцев в селе стояла кавалерия, большей частью молодежь. Они пили, играли в карты, продавали и раздавали седла, винтовки, т. е. вооружали местное население. Перед приходом в Овсянку японцев красногвардейцы из села ушли. Но один из них не успел это сделать и японцы его схватили. Офицер приказал солдату бежать, а сам, отпустив его метров на 10, три раза выстрелил в вдогонку, но промахнулся. Тогда офицер дал команду своим солдатам стрелять из винтовок, результат такой же. Красноармеец убежал за село, но, видимо, сил у него уже не хватило. Он добежал до кустарника и упал. Два кавалериста его настигли и пристрелили.
А пароход, который ждали японцы не дошел до Овсянки километров 5. Красногвардейцы высадились с него, и пошли цепью в сторону села, но японцев в населенном пункте уже не было. Тогда они снова погрузились на пароход и поплыли в сторону города Зея. В это время иностранные интервенты уже окапывались на берегу в городе, ожидая подхода парохода. Японцы на лодке выслали для встречи с плывущими своих парламентеров с предложением сложить оружие. Красногвардейцы отказались в надежде на то, что смогут прорваться и уйти по реке дальше на прииска. Как только судно сравнялось с городом, японцы дали несколько залпов из орудий по плывущим по реке. Судно и баржа загорелись. Красногвардейцы бросились вплавь на другой берег. В этом месте у иностранцев засады не было, благодаря этому многие красногвардейцы спаслись и ушли в тайгу.
Дня через два в село пришла ещё одна колонна японцев: пехота, обоз и кавалерия. В Овсянке сделали штаб, а в Заречном (на Уркане),(Заречное на Уркане образовано переселенцами из Гомельской губернии в 1907 году –В.Р.), Костроме, Тихеевке поставили посты. Жителям стали выдавать пропуска, без которого никуда за пределы населенного пункта не пойдешь и не поедешь. К нам пришёл японский переводчик и заявил отцу, что он поселится в новом доме, а хозяева пусть останутся в своей. Мы так и остались жить в старой квартире.
В эти годы было очень тяжело с покупкой продуктов, «Керенские», «колчаковские» деньги в китайских лавочках не принимали. Деньги «романовские» были еще в ходу, но не у всех они были. Некоторые зажиточные сельчане «романовские» купюры припрятали, надеясь, что они ещё будут в цене. Валюта обесценилась. 10 и 100 рублей заработка ничего не стоили. Двух пассажиров отвезти с Овсянки до Тыгды стоило 150 тысяч рублей. Появились и японские иены. С работой также были проблемы, ничто не строилось, прииски опустели, перевозка груза по реке также резко сократилась. Что бы как то существовать пробовали искать работу повсюду. Собралось нас 9 человек – два брата Бессоновых на трех лошадях, Пясецкий Петр – на двух, Литвинцев Александр –на одной, Татарчаков Матвей –на двух, Рубец Александр – на одной, татарин Салях – на одной и я – на одной, а также безлошадный Глазков Александр и поехали мы в декабре на заработки в Тыгду (Тыгда образована переселенцами в 1904 году – В.Р.) на железную дорогу возить шпалы. Около села Покровка (Покровка образована переселенцами в 1904 году – В.Р.) нас остановили 12 кавалеристов – партизан, командиром по внешнему виду мы определили, был мадьяр. Он поинтересовался, куда мы направляемся, посоветовал на ночь остановиться в Покровке, разъяснил, что вечером они будут проводить митинг в селе, будут агитировать местных жителей вступать в партизанский отряд. Пригласил и нас на это собрание, предложил и нам подумать над его предложением. Высказал предположение о возможности мобилизации и наших лошадей для нужд отряда. Попросил у нас сена и овса для своих лошадей, что мы и сделали. Партизаны выставили верховые посты со стороны Тыгды и Овсянки. Остальные расположились на отдых в селе. Мы распрягли лошадей, дали им корм, попили чай и после этого вышли во двор, чтобы обсудить возникшие проблемы. Не успели придти к какому то конкретному решению как подъехал часовой и сообщил своему командиру о том, что со стороны Тыгды движется обоз из 5 повозок с людьми, то ли с японцами или с китайцами, с большого расстояния не определить. Партизаны ускакали в лес, а их командир несколько задержался, что бы определить, кто это движется в их сторону. Японцы заметили всадника, обстреляли его, но, ни одна пуля не попала в партизана. Японцы из оружия обстреляли дом в котором мы находились. Нам пришлось с поднятыми руками выйти из помещения. Они связали нас за руки, с помощью возчиков из Покровки и Тыгды запрягли наших лошадей и повезли в сторону Тыгды. Прибыли в Тыгду только ночью, японский переводчик пытался у нас добиться являемся ли мы «большевиками», объяснили ему, что мы крестьяне, ехали на заработки. Только через сутки, получив подтверждение от старосты села Овсянки о том, что мы мирные люди и не имеем никакого отношения к партизанам, после тщательного обыска и обобрав, нас отпустили. Вернули нам и наших лошадей. От местного жителя мы узнали, что накануне в Покровке японцами было расстреляно несколько захваченных в плен партизан, и мы еще хорошо отделались, что остались живы. Нам повезло в том, что перед этим у японцев произошла замена на молодых солдат, которые еще не так научились зверствовать. Только на третьи сутки, испытав страх, мы вернулись домой.
Месяца через полтора после указанных событий мы узнали, что Зейский грузчик Кошелев набрал небольшой партизанский отряд кавалерии и уехал в низ по Зее. Братья Бессоновы, Татарчаков и ещё несколько овсянковских парней присоединились к отряду. Японцы узнали об этом отряде, зашевелились, под нажимом заставили местных крестьян запрячь лошадей и везти их на поиски партизан. В розыске отряда Кошелева принимали участие белогвардейский офицер Корсаков, Михайлов и житель города Зея Головченко немного умеющий говорить на японском языке. Из –за малочисленности, отсутствия опыта и боеприпасов на первом этапе борьбы партизаны в открытые боевые схватки с интервентами не вступали. Кроме того, обстрел обозов с японцами не производили из нежелания ранить русских возчиков, выполняющих эту обязанность по принуждению. Японцы поездят, поездят по деревням, партизан не найдут и возвращаются к себе на базу. Крестьяне жили дружно, друг друга не выдавали. Но все – таки находились подлецы, выслуживались перед интервентами. И однажды летом кто – то доложил им о том, что у одного крестьянина – Клепикова Осипа спрятано 7 винтовок. Жил Клепиков очень бедно. Японский офицер, Корсаков, Михайлов и овсянковский полицейский Семихин пришли к бедняку и приказали Семихину произвести обыск всех помещений с целью розыска оружия. Корсаков заявил, что имеет письменное донесение о наличии и количестве спрятанного оружия, предлагал добровольно сдать его. В противном случае грозился казнью. Обыскали все помещения, подполье, оружия нигде не нашли. Оставался один сеновал, когда полицейский полез на сеновал, то Клепиков мысленно уже попрощался с жизнью – винтовки были спрятаны там. Семихин стал в сене рыться, нащупал винтовки, но виду не подал, стал рыться ещё сильнее, а сам еще тщательней перебрасывал сено на винтовки. Клепиков понял, что полицейский Семихин спас ему жизнь. Корсаков не этом не остановился, он больше верил записке полученной от японского солдата, арестовал Клепикова и повел на допрос на пароход стоящий на причале у села. По пути захватили показавшегося подозрительным Верхушина Терентия, имеющего некоторые отклонения в психике. После допроса с пристрастием мужчин отвезли на пароходе за четыре километра от Овсянки на остров, шомполами избили, после чего высадили на берег, а сами уплыли в село. Клепиков самостоятельно не мог передвигаться, только после того, как Верхушин сообщил женщине о месте нахождения её мужа, она на лошади перевезла его домой. Прятался в Овсянке и бывший красногвардеец Николай с парохода, затопленного в Зее. Жил он на квартире у старосты села Смолина. С помощью полицейского Семихина и старосты Николаю выдали надежные документы. Однажды мне с Бахмутом и Муравьевым Алексеем пришлось ехать в Амуро - Балтийск за сеном. В это время в селе находился со своим отрядом Кошелев. Мы стали проситься к нему в партизаны. На это получили отказ по причине нашей молодости и маленького роста. Объяснил нам, что мы не сможем хорошо справляться с винтовкой, и он не хочет отвечать перед нашими родителями, если произойдет наше обморожение в таких трудных условиях жизни в полевых условиях.
В 1919 году отряд Кошелева вырос до 150 человек. В отряде много было стариков, но большая часть составляла молодежь. Была у них своя кавалерия и пехота, ездили по сёлам группами, что бы пропитаться самим и лошадям.
Однажды братья Бессоновы, Татарчаков Матвей, Баташов Захар и еще четыре человека ехали из Ивановки в Амуро – Балтийск. В это время Гурбин Яков вез пятерых японских солдат на двух лошадях. Он увидел партизан и указал на них японцам. Партизаны также заметили японцев и произвели выстрел - убили 3х японцев и одну лошадь. Один японец залег в кювет и присмотрелся, откуда ведется стрельба. Татарчаков в армии не служил и не учел то обстоятельство, что с одного места стрелять нельзя, надо постоянно передвигаться. Только он приподнялся, японец выстрелил и попал ему в грудь, Матвей упал и только успел сказать товарищам: «Я умираю». Похоронен Матвей в центре села, в последующем на его могиле будет установлен памятник.
Морозы были за 40 градусом, а партизаны плохо обмундированы. Население местное бедное. Тут крайне трудно было кормить большой партизанский отряд. К тому же после ряда серьезных боев с японцами наступило затишье. Кошелев решил разгрузиться от лишних людей, которые в такой ситуации были только обузой. Половине отряда выдали документы о том, что они отпущены во временный отпуск и по первому зову штаба должны явиться в отряд. В такую погоду японцы приказали местным жителям везти их на 60 подводах преследовать партизан в районе села Умлекан. Японцы были хорошо одеты, в шубах, теплых ботинках, меховых шапках и рукавицах. На груди у них находились плоские фляги с каким то порошком, который в необходимых случаях поджигался и выделяемым теплом обогревал тело японцам. Партизаны решили карателям дать бой, разработали план с засадой и боковым ударом. Из-за некоторой неразберихи одержать победу в этом бою партизанам не удалось. В бою был убит японский офицер, но и партизаны понесли потери. Один из них с обмороженными ногами попал в плен и был расстрелян. Каратели захватили несколько крестьян из села Сиан, оказывающих помощь партизанам и утопили их в проруби реки Зея. Партизаны отступили в сторону села Новоямполь. (Ново – Ямпольское селение образовано переселенцами из Полтавской губернии в 1908 году – В.Р.)
Встреча учащихся школы № 1 с участником партизанского движения. Фото 1956 года. фото 14.
В Новоямполе по-прежнему стоял отряд белых, в Усть – Депе – японцы, отряд ушел верст на 15 в тайгу, где депские крестьяне паромили лес для сплава. Они рассказали, что у Сугайло и Дудина (активные партизаны из села Ново – Ямполь, которые стояли у истоков создания партизанского отряда – В.Р.) каратели спалили дома, взяли скот и всю деревню перепороли. Были тут и японские инженеры, по всем деревням они делали перепись и съемку местности, ездили в тайгу и по реке Зее, все фотографировали и распорядились, чтобы крестьяне не только сырой, но даже сухостойный лес не смели рубить, а подбирали бы только валежник. Говорили: « Наши люди здесь тоже будут жить».
В 1920 году, перед тем как уходить с Зейской земли японцы сложили на площади села ящики с продуктами питания, мешки с рисом и приказали крестьянам собраться с телегами в этом месте, объявили, что будут раздавать все это крестьянам. Когда на площади собралось большое количество людей, японцы погрузили рис на подводы, повезли его на берег и стали рис высыпать в реку. Консервы сжигали на костре. Перед отъездом заставили всех жителей запрячь лошадей и подогнать к штабу. Погрузка заняла весь день. Кошелеву стало известно, что японцы эвакуируются и при этом пытаются увезти с собой оружие и золото которое принадлежало городской казне. Чтобы воспрепятствовать вывозу награбленного, партизаны в Заречном (на Уркане) устроили засаду. После длительных переговоров и указания из Благовещенска о необходимости, с одной стороны решить вопрос мирным путем, так как японская сторона уже заявила о своем нейтралитете, с другой стороны заставить их сдать золото и награбленное имущество и прекратить уничтожать продукты питания стороны пришли к мирному решению. Из Овсянки японцы возвратили в Зейский госбанк золото, а рис и консервы пошли на оплату крестьянам за провоз на лошадях до станции Тыгда.
Утром 22 февраля 1920 года партизанский отряд под руководством Федора Кошелева торжественно вошел в город Зею. С этого времени в городе и округе была восстановлена Советская власть».
Многие партизаны пали смертью храбрых. Им сооружены памятники в Овсянке, Заречной Слободе, на Золотой Горе. В память партизанам Кошелева установлен обелиск у урканского моста, на котором написано: «Павшим партизанам отряда Кошелева». В городе Зее на площади Коммунаров – братская могила, где похоронены 53 красногвардейца, зверски замученных японцами и белогвардейцами, имена 43-х не установлены.
». С первыми известиями об Октябрьской революции японское правительство стало разрабатывать планы захвата русских дальневосточных территорий.
3 декабря 1917 года собралась специальная конференция с участием США, Великобритании, Франции и союзных им стран, на которой было принято решение о разграничении зон интересов на территориях бывшей Российской империи и установлении контактов с национально-демократическими правительствами. Не имея достаточно войск, Великобритания и Франция обратились с просьбой о помощи к США. Тем временем 12 января 1918 года японский крейсер «Ивами» вошёл в бухту Владивостока для «защиты интересов и жизни проживающих на российской земле японских подданных», при этом утверждалось, что японское правительство не намерено «вмешиваться в вопрос о политическом устройстве России». Несколько дней спустя во Владивосток прибыли военные корабли США и Китая .
Интервенция
14 мая 1920 года командующий японскими войсками на Дальнем Востоке генерал Юи Мицуэ объявил о согласии вести переговоры с ДВР. Японцы предложили создать западнее Читы нейтральную зону, которая бы отделила части НРА от японских и семёновских войск. 24 мая на станции Гонгота начались официальные переговоры ДВР и японского командования. Как предварительное условие было принято, что «НРА и экспедиционные силы японской империи не вели и не ведут войну, случаи столкновения, вызванные взаимным непониманием, должны рассматриваться как печальные недоразумения». Делегация ДВР стремилась увязать заключение перемирия с тремя условиями:
Японцы отказались от эвакуации войск, ссылаясь на угрозу Корее и Маньчжурии, потребовали признать Семёнова за равноправную сторону при переговорах об объединении дальневосточных областных властей, и стремились ограничиться лишь соглашением с НРА, чтобы разгромить восточно-забайкальских партизан. В начале июня переговоры прервались из-за отказа делегации ДВР признать «правительство Российской Восточной окраины» как равноправную сторону на будущих переговорах об объединении областных правительств. Тем не менее общая ситуация складывалась невыгодным для белых войск образом, и 3 июля японское командование опубликовало декларацию об эвакуации своих войск из Забайкалья. 10 июля были возобновлены переговоры между японским командованием и ДВР, и 17 июля было заключено Гонготское соглашение . К 15 октябрю японские войска покинули территорию Забайкалья. США с тревогой следили за действиями Японии. 9 февраля 1921 года американский консул во Владивостоке опубликовал декларацию правительства США, в которой осудил нарушение территориальной целостности России. 26 мая 1921 года во Владивостоке произошёл военный переворот, в результате которого к власти пришло правительство Меркулова , опирающееся на японские войска. 31 мая 1921 года США снова направили Японии ноту с предупреждением, что они не признают никаких притязаний и прав, являющихся следствием японской оккупации Сибири. Интервенция стоила Японии больших расходов (около 600 миллионов иен), а когда гражданская война фактически завершилась победой большевиков - надежды на колониальную эксплуатацию российского Дальнего Востока растаяли, что сделало дальнейшую дорогостоящую экспедицию бессмысленной. Оппозиционная партия Кэнсэйкай, представлявшая торгово-промышленные круги, неоднократно выступала за вывод японских войск из Сибири. Кроме того, противниками продолжения интервенции были представители японского флота, выступавшие за перераспределение средств в пользу военно-морских сил (что было невозможно при сохранении огромного экспедиционного корпуса в России); они пользовались поддержкой со стороны японских судостроительных компаний, имевших значительное влияние на правительство и прессу. На состоявшейся в конце 1921 - начале 1922 годов Вашингтонской конференции Япония оказалась фактически в международной изоляции из-за своей дальневосточной политики. В условиях внешнего и внутреннего давления администрация Като Томосабуро была вынуждена вывести японские войска из Приморья. 25 октября 1922 года японские войска покинули Владивосток. Японская интервенция нанесла огромный ущерб хозяйству русского Дальнего Востока; кроме того, так и остался нерешённым вопрос о судьбе части золотого запаса России , переданного белогвардейцами Японии «на хранение». |
Антисоветские действия международного империализма начались с первых же дней Советской власти. В ноябре 1917 г. по инициативе США была объявлена экономическая блокада Советской России. В декабре 1917 г. шли переговоры между США, Англией, Францией и Японией об организации интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке.
Одновременно Маньчжурия была превращена в плацдарм борьбы против Советской России.
Победа социалистической революции на побережье Тихого океана напугала империалистов, они боялись, что искры революционного пожара могут перекинуться на их владения в Корее, Китае и Юго-Восточной Азии. Первые попытки военного вторжения относятся к ноябрю 1917 г., когда во Владивостокский порт самовольно вошел американский крейсер "Бруклин". Месяц спустя здесь появились японский крейсер "Ивами" и английский крейсер "Суффолк". Представители США, Японии, Англии и Франции вступили в контакты с деятелями свергнутого Временного правительства, что и активизировало контрреволюционные организации Сибири и Дальнего Востока. Значительную роль в организации белогвардейского движения сыграли иностранные консульства, представители иностранных, главным образом японских и американских, фирм и контор. В феврале 1918 г. Красная Армия предотвратила, а также подавила контрреволюционные мятежи в Омске, Ново николаевске, в марте - в Благовещенске-на- Амуре. 19 марта 1918 г. был подавлен контрреволюционный мятеж на Камчатке (село Сероглазка вблизи Петропавловска-Камчатско- го), к организации которого были причастны японцы.
Интервенты всячески пытались подорвать экономику молодой Советской Республики, вопреки нормам международного права вмешиваясь в ее внутренние дела и стремясь сорвать национализацию промышленности и транспорта. В мае 1918 г. английские империалисты в союзе с китайскими милитаристами захватили в портах Китая русские пароходы, обслуживавшие северо-восточный район Тихого океана, в том числе Камчатку и Чукотку. Они поддерживали действия русской буржуазии, распродававшей иностранцам национальное имущество. Так, амурскими судовладельцами было продано 50 пароходов, часть которых была куплена представителем американских морских сил адмиралом Найтом, несмотря на очевидную незаконность сделки.
С весны 1918 г. иностранные интервенты развернули необъявленную войну против Советской России. 5 апреля 1918 г. во Владивостоке высадился десант англичан и японцев. Под покровительством Японии, США, Франции и Англии в Маньчжурии формировались белогвардейские отряды Семенова, Калмыкова и Орлова. В Даурии действовал отряд помощника Семенова - барона Унгерна. Террор белогвардейцев вызвал решительный отпор местного населения.
Партизанские отряды и советские воинские части под командованием С. Лазо в июле 1918 г. нанесли серьезный удар белогвардейцам и интервентам, отбросив их в Маньчжурию.
Действия японских интервентов на Дальнем Востоке отличались жестокостью. Зимой и весной 1918-1919 гг. карательные отряды японцев за поддержку партизан только в Амурской области сожгли около 30 сел и деревень. В селе Белоярово японские солдаты согнали на лед реки Зеи все мужское население, от малолетних детей до стариков, и расстреляли их из пулеметов. Особо известно злодеяние японских интервентов в селе Ивановка Амурской области. 22 марта 1919 г. японская артиллерия обстреляла Ивановку, фактически уничтожив село. Было сожжено 196 домов и убито 257 ее жителей, при этом мужчины были загнаны в сараи и сожжены заживо.
Хозяйничанье интервентов вызвало широкое партизанское движение.
В конце января 1920 г. партизанские соединения вошли в Уссурийск и Владивосток, в феврале - в Благовещенск, 29 февраля был взят Николаевск-на-Амуре.
Однако в городах еще оставались японские войска. В марте 1920 г. в Николаевске-на-Амуре, нарушив заключенное с партизанскими отрядами соглашение, японские войска внезапно напали на них. Провокационные действия японской военщины вызвали протесты трудящихся как в Советской России, так и в Японии. Однако японцы, голословно обвиняя партизан в "николаевском инциденте", 4-5 апреля 1920 г. организовали новое нападение на партизан во Владивостоке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Хабаровске и других городах и селах Приморья. В эти дни погибло более 5 тыс. человек. Были зверски убиты - сожжены в паровозной топке - члены Приморского Военного Совета С. Лазо, А. Луцкий, В. Сибирцев.
К началу 1920 г. правительства Антанты были вынуждены объявить об эвакуации своих войск. В сложной международной обстановке Советская Россия пошла на компромисс: в апреле 1920 г. было создано буферное государство - Дальневосточная республика (ДВР).
Однако военные действия продолжались. Разгром белогвардейцев под Спасском и Волочаевкой заставил японцев ускорить эвакуацию своих войск. 25 октября 1922 г. Народно-революционная армия ДВР, завершившая освобождение Приморья от интервентов и белогвардейцев, вступила во Владивосток. 14 ноября 1922 г. было ликвидировано буферное государство и Дальний Восток воссоединен с РСФСР.
Японские и американские империалисты и белогвардейцы продолжали грабить природные богатства Камчатки и Чукотки. Выбитые с советского Дальнего Востока японские интервенты продолжали держать свои войска на Северном Сахалине до 1925 г., до подписания советско-японской конвенции, предусматривавшей их немедленный вывод.
Не повезло России на Дальнем Востоке. Судьба послала ей на тихоокеанском побережье крайне неуживчивого и агрессивного соседа - Японию, чьи правящие круги в течение ряда минувших десятилетий то и дело посягали на российские национальные интересы. Примерами тому стало нападение на Россию в январе 1904 года, приведшее к русско-японской войне и отторжению от нашей страны Южного Сахалина. В еще большей мере агрессивные устремления японских правящих кругов проявились в годы широкомасштабного вооруженного вторжения Японии в пределы России, продолжавшегося с 1918 по 1925 годы. Те же захватнические поползновения проявились и в многократных бесцеремонных нарушениях советских территориальных вод японскими военными кораблями и рыболовными флотилиями в 20-30-х годах. А чего стоили вооруженные провокации японской военщины против нашей страны в районе озера Хасан и у реки Халхингол, завершившиеся бесславно лишь потому, что встретили решительный отпор советских вооруженных сил. Не пошел на пользу некоторым политическим деятелям и разгром японского милитаризма в 1945 году. Ведь до сих пор в политическом мире Японии имеется немало влиятельных поборников территориальных притязаний к России, одни из которых зарятся на четыре южных острова Курильского архипелага, другие - на весь архипелаг, а третьи, и на Южный Сахалин.
Перечисляя все эти агрессивные деяния и помыслы правящих кругов Японии против нашей страны, следует, правда, помнить и то, что подобная же агрессивность Японии проявлялась и в отношении других стран-соседей. В 1910 году японцы аннексировали Корею, жестоко подавив вооруженной силой сопротивление ее народа. В 1931–1945 годах японские армии захватили едва ли не большую часть китайской территории.
В 1941 году объектом японских атак и захватов стали тихоокеанские владения США и Англии, а также все страны Юго-Восточной Азии. Да и в наши дни продолжают тлеть очаги территориальных споров Японии с Республикой Корея из-за островов Токто (Такэсима) и с КНР из-за островов Сэнкаку. Видимо, жадное стремление поживиться за счет соседних стран так глубоко укоренилось в сознании некоторых японских государственных деятелей, что даже 50 лет, прошедшие со времени военного разгрома милитаристской Японии, не смогли до конца изжить подобные помыслы, что не способствует, естественно, упрочению мира в бассейне Тихого океана.
В числе захватнических акций Японии, предпринимавшихся в прошлом против нашей страны, наименьшее освещение, как в отечественной, так и в японской литературе, получила в последние годы вооруженная интервенция Японии в Сибири, Забайкалье, Приамурье, Приморье и на Северном Сахалине, продолжавшаяся в общей сложности более семи лет. Трудно сказать, почему отечественные историки и японоведы не уделяют должного внимания этой теме: скорее всего из ложно понимаемого ими стремления не ворошить прошлого во имя улучшения нынешних связей с Японией. Ведь некоторым из наших историков и журналистов и теперь кажется, что закрывая глаза на самые мрачные страницы в истории взаимоотношений двух стран они оказывают некую услугу делу упрочения российско-японского добрососедства.
Что же касается освещения интервенции Японии в России в книгах японских историков, то за редким исключением авторам этих книг чужда объективность, что объясняется прежде всего их заботой о “доброй репутации” своей страны и связанным с этим стремлением оставить общественность в неведении о тех преступлениях, которые учиняла японская военщина на оккупированных ею российских территориях. Лишь очень немногие из японских ученых проявили научную честность в этом вопросе и нашли в себе мужество признать захватнический, агрессивный характер японской интервенции в России и дать в своих трудах правдивое описание всего того, что творила японская армия в ходе своего сибирского ограниченную по времени “экспедицию”, предпринятую с благородной целью выполнения некого “союзнического долга” перед странами Атланты, а также с целью охраны проживавших во Владивостоке и некоторых других городах японских граждан, которым в действительности тогда никто не угрожал. Примечательно, что и авторы японских школьных учебников истории предпочитают, как правило, умалчивать об агрессии Японии против Советской России, хотя эта агрессия и длилась почти семь лет. Вот почему сегодня у подавляющего большинства японских граждан и в особенности у людей молодого возраста отсутствует правдивое представление о том, какие задачи ставились руководителями “миротворческой экспедиции” Японии в Сибири и других районах русского Дальнего Востока и чем занималась японская военщина в те дни на территории нашей страны. Слишком мало знает об этом даже японская научная общественность.
В действительности же вооруженная интервенция Японии на российском Дальнем Востоке представляла собой не что иное как необъявленную завоевательную войну, развязанную с целью овладения Приморьем, Забайкальем, Приамурьем и Восточной Сибирью, с целью превращения всех этих громадных территорий в японскую колонию. К сожалению, большинство историков и публицистов не хотят этого признавать. Но есть все-таки и в Японии сторонники правдивых оценок истории. “В последнее время, особенно среди молодых ученых, - пишет Осаму Такахаси - автор книги “Дневник Сибирской экспедиции”, - появились люди, выступающие за то, чтобы сменить слова “сибирская экспедиция” на “сибирская война”. Я также с этим полностью согласен. Однако число таких ученых в Японии пока еще очень мало”.
Война Японии в России была начата в соответствии с секретным планом японского военного министерства, разработанным еще в начале 1918 года специально созданным комитетом во главе с военным министром генералом Гиити Танакой.
Высылка солдат японского экспедиционного корпуса во Владивостокском порту (апрель 1918 года)
 Марш японских интервентов по улицам Владивостока (апрель 1918 года)
Марш японских интервентов по улицам Владивостока (апрель 1918 года)
Война эта носила широкие масштабы: в ней приняло участие в общей сложности 11 японских дивизий, контингент которых включал более 70 тысяч офицеров и солдат. В ходе интервенции японские оккупанты совершили на российской территории несчетное число преступлений. Мало наших соотечественников и тем более японцев знает о том, сколько сотен, сколько тысяч русских людей было расстреляно японскими офицерами и солдатами, беззаконно вторгшимися на нашу землю и творившими там жестокие расправы над местным населением. Примеры тому приводятся в трудах отечественных историков. Пишут об этом также и честные японские ученые. Так в японской исторической литературе подробное освещение получила учиненная интервентами в Приамурье в деревнях Мажаново и Сохатино массовая кровавая расправа с жителями этих деревень, не пожелавшими далее терпеть бесчинства японской военщины и поднявшими мятеж против своих угнетателей. Прибывший в эти деревни 11 января 1919 года карательный отряд по приказу своего командира - капитана Маэда расстрелял всех находившихся в этих деревнях жителей, включая женщин и детей, а сами деревни были сожжены дотла. Признавало впоследствии без всякого стеснения этот факт и само командование японской армии. В “Истории экспедиции в Сибири в 1917–1922 годах”, составленной Генеральным штабом японской армии, писалось, что “в наказание дома жителей этих деревень, поддержавших связь с большевиками, были сожжены”.
И это был не единичный случай. В марте 1919 года командующий 12 бригадой японской оккупационной армии в Приамурье генерал-майор Сиро Ямада издал приказ об уничтожении всех тех сел и деревень, жители которых поддерживали связь с партизанами. Во исполнение этого приказа, как подтверждают японские историки, в марте 1919 года были подвергнуты “чистке” следующие села и деревни Приамурской области: Круглое, Разливка, Черновская, Красный яр, Павловка, Андреевка, Васильевка, Ивановка и Рождественская.
Ао том, что творили в этих деревнях и селах в ходе чистки японские оккупанты, можно судить по приведенным ниже сведениям о зверствах японских карателей в селе Ивановке. Село это, как сообщается в японских источниках, было неожиданно для его жителей окружено японскими карателями 22 марта 1919 года. Сначала японская артиллерия обрушила на село шквальный огонь, в результате чего в ряде домов начались пожары. Затем, на улицы, где метались с плачем и криками женщины и дети, ворвались японские солдаты. Сначала каратели выискивали мужчин и там же на улицах расстреливали их или закалывали штыками. А далее оставшиеся живыми были заперты в нескольких амбарах и сараях и сожжены заживо. Как показало проведенное впоследствии расследование, после этой резни было опознано и захоронено в могилах 216 жителей села, но кроме этого большое число обуглившихся в огне пожаров трупов так и осталось неопознанными. Сгорело дотла в общей сложности 130 домов. Ссылаясь на изданную под редакцией Генерального штаба Японии “Историю экспедиции в Сибири в 1917–1922 годах” японский исследователь Тэруюки Хара писал по тому же поводу следующее: “из всех случаев “полной ликвидации деревень” наиболее крупным по своим масштабам и наиболее жестоким стало сожжение деревни Ивановки. В официальной истории об этом сожжении пишется, что это было точное исполнение приказа командира бригады Ямады, звучавшего так: “приказываю предельно последовательно наказать эту деревню”. А о том, как это наказание выглядело в реальной действительности, говорилось в нарочито туманной форме: “Спустя некоторое время пожары возникли во всех концах деревни”.
Зверские расправы с жителями Ивановки, как и других сел, должны были по замыслу японских интервентов посеять страх среди населения оккупированных ими районов Советской России и таким образом заставить русских людей прекратить всякое сопротивление непрошенным гостям из “Страны восходящего солнца”. В заявлении, опубликованном на следующий день в местной печати генерал-майором Ямадой без обиняков писалось о том, что всех “врагов Японии” из числа местного населения “постигнет та же участь, что и жителей Идановки”.
 Японские солдаты около расстрелянных ими жителей Дальнего Востока
Японские солдаты около расстрелянных ими жителей Дальнего Востока
Однако даже в японской исторической литературе имеется немало публикаций, в которых признается несостоятельность карательных операций японской армии в Сибири и Забайкалье, порождавших среди русского населения этих районов массовые антияпонские настроения и еще большее сопротивление произволу интервентов.
Как отмечается в “Истории гражданской войны в СССР” (Том 4, стр. 6), японские интервенты разграбили в общей сложности 5775 крестьянских хозяйств и сожгли дотла 16717 построек.
Чувствительные потери в этой преступной войне понесла, кстати сказать, и сама японская армия. По данным японских историков, в сражениях с защитниками независимости нашей страны погибли в дни японской интервенции более 3 тысяч японских солдат и офицеров.
Но это еще не все. В ходе оккупации Восточной Сибири и ряда районов российского Дальнего Востока японские интервенты занимались беззастенчивым грабежом природных богатств, а также имущества, принадлежавшего местному населению. На военных кораблях и гражданских судах без стеснения увозились в Японию самые разнообразные материальные ценности, попадавшиеся интервентам под руку, будьте частная или государственная российская собственность. Так за годы интервенции из континентальных районов России в Японию было вывезено более 650 тысяч кубометров леса, были угнаны в Маньчжурию свыше 2 тысяч железнодорожных вагонов и более 300 морских и речных судов. Из Приморья и Сахалина в Японию вывозился в те годы фактически весь улов лососевых и до 75 процентов улова сельди, что причинило России огромные убытки в размере 4,5 миллионов рублей золотом. И это далеко не полный перечень российских богатств, незаконно присвоенных, японскими оккупантами в годы интервенции в России.
Преступное содействие японским оккупантам оказали в разграблении российских богатств некоторые из белогвардейских генералов и офицеров, рассчитывавших с помощью Японии удержать в своих руках те или иные территории. Одни из них, руководствовались при этом сугубо корыстными устремлениями, другие - заведомо ошибочными политическими расчетами. Но все они, как показал ход событий, вольно или невольно причинили тяжкий ущерб национальным интересам России.
Одним из самых крупных покушений на национальную собственность нашей страны стало в годы японской оккупации похищение интервентами при содействии их сообщников-белогвардейцев значительной части государственного золотого запаса России - похищение, обстоятельства и следы которого до сих пор скрывались и замалчивались японской стороной.
Революционные события 1917 года породили хаос власти на Дальнем Востоке. На руководство Владивостоком претендовало Временное правительство, казачьи атаманы Семёнов и Калмыков, Советы (большевики, эсдеки и эсеры), правительство автономной Сибири и даже директор КВЖД генерал Хорват.
В ходе Первой Мировой во Владивостоке скопилось около 40 тысяч солдат, матросов и казаков (при том, что население города составляло 25 тыс.), а также большое количество военного снаряжение и оружия, привезённого сюда союзниками по Антанте для переброски на запад по Транссибу).
12 января 1918 года в Золотой Рог зашли крейсера-стационеры союзников: японский «Ивами» (поднятый после цусимского сражения русский «Орел») и британский «Суффолк». 1 марта 1918 года во Владивостоке на рейде встал на якорь американский крейсер «Бруклин». Позже в порт прибыл военный корабль китайцев.
4 апреля 1918 года во Владивостоке было совершено убийство двух японцев, а уже 5 апреля в порту Владивостока высадились японский и английский десанты (англичане высадили 50 морских пехотинцев, японцы - 250 солдат) под предлогом защиты своих граждан. Однако возмущение немотивированной акцией оказалось столь велико, что через три недели интервенты все же убрались с улиц Владивостока на свои корабли.
В июне 1918 года союзные десанты во Владивостоке несколько раз силой противостояли попыткам совета вывезти из Владивостока на запад России стратегические запасы: амуниционные склады и медь. Поэтому 29 июня командующий чехословацкими войсками во Владивостоке русский генерал-майор Дитерихс предъявил ультиматум владивостокскому совету: разоружить свои отряды через полчаса. Ультиматум был вызван сведениями, что вывозимое имущество используется для вооружения пленных мадьяр и немцев - несколько их сотен находились недалеко от Владивостока в составе отрядов Красной гвардии. Чехи со стрельбой быстро заняли здание совета и приступили к насильственному разоружению отрядов городской Красной гвардии.
После взятия Владивостока чехи продолжили наступление на «северные» отряды приморских большевиков и 5 июля взяли Уссурийск. По воспоминаниям большевика Уварова, всего за время переворота чехами в крае было убиты 149 красногвардейцев, арестованы и преданы военно-полевому суду 17 коммунистов и 30 «красных» чехов.
Именно июньское выступление во Владивостоке Чехословацкого корпуса стало поводом для совместной интервенции союзников. На совещании в Белом доме 6 июля 1918 года было решено, что США и Япония должны высадить на российском Дальнем Востоке по 7 тысяч солдат. Однако Япония, полтора десятка лет назад уже отхватившая кусок сладкого дальневосточного пирога, действовала по своему плану: к концу 1918 года она имела на Дальнем Востоке уже 80 тыс. солдат. Впрочем, американцы тоже перебрали квоту, высадив здесь 8,5 тыс. солдат вопреки возражениям японского главнокомандующего силами интервентов на Дальнем Востоке генерала Отани.
6 июля 1918 года в городе высадились многочисленные десанты интервентов, а союзное командование во Владивостоке объявило город «состоящим под международным контролем». Целью интервенции было объявлено оказание помощи чехам в их борьбе против германских и австрийских пленных на территории России, а также оказание помощи Чехословацкому корпусу в его продвижении с Дальнего Востока во Францию, а затем на родину.
Чрезвычайный V съезд Советов Дальнего Востока решил прекратить борьбу на уссурийском фронте и перейти к партизанской борьбе. Функции органов Советской власти стали осуществлять штабы партизанских отрядов.
В ноябре 1918 г. к власти в регионе пришло правительство адмирала А.В. Колчака. Уполномоченным Колчака на Дальнем Востоке был генерал Д.Л. Хорват. В июле 1919 г. военным диктатором Приморской области стал генерал С.Н. Розанов. Все областные правительства и иностранные державы признали А.В. Колчака «верховным правителем России».
К концу 1918 года численность интервентов на Дальнем Востоке достигла 150 тыс. чел., в том числе японцев - свыше 70 тыс., американцев - ок. 11 тыс., чехов - 40 тыс. (включая Сибирь), а также небольшие контингенты англичан, французов, итальянцев, румын, поляков, сербов и китайцев.
Разгром войск Колчака вынудил главнокомандующего войсками интервентов в Сибири ген. Жаннена начать срочную эвакуацию чехословаков, среди которых началось революционное брожение. Под влиянием успехов Красной Армии участники интервенции на совещании 16 дек. 1919 г. вынесли решение о прекращении помощи белогвардейцам на территории России.
США, опасаясь распространения большевистского влияния на американских солдат и рассчитывая на столкновение Японии с Советской Россией, 5 янв. 1920 приняли решение об эвакуации своих войск с Дальнего Востока. Япония формально заявила о своем "нейтралитете".
В начале 1920 года власть во Владивостоке перешла к Временному правительству Приморской земской управы, состоявшему из представителей разных политических сил от коммунистов до кадетов.
В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года японские войска напали на революционные войска и организации Приморья. Погибли тысячи людей, были схвачены и зверски убиты члены Высшего военного совета Приморья С. Г. Лазо, В. М. Сибирцев, А. Н. Луцкий.
Чтобы парализовать дальнейшее распространение японской агрессии в Забайкалье, 6 апреля 1920 года была создана буферная Дальневосточная республика (ДВР). Ввиду протеста всего консульского корпуса японцы были вынуждены вернуть к управлению Временное правительство Приморской земской управы.
Советская Россия официально признала ДВР уже 14 мая 1920 года, предоставив ей с самого начала финансовую, дипломатическую, кадровую, хозяйственную и военную помощь. Это позволило Москве контролировать внутреннюю и внешнюю политику ДВР и создать Народно-революционную армию ДВР (НРА) на базе красных дивизий.
Провозглашение ДВР способствовало предотвращению прямого военного конфликта между Советской Россией и Японией и выводу иностранных войск с территории Дальневосточного края, и создало возможность для Советской России с помощью НРА разгромить несоветские республики Забайкалья, Приамурья и Зелёный Клин.
На переговорах, состоявшихся на станции Гонгота (24 мая-15 июля 1920), японская делегация была вынуждена согласиться на эвакуацию своих войск из Забайкалья. Эта дипломатическая победа Москвы и предательство колчаковских генералов осенью 1920 года, стоявших во главе Дальневосточной армии дало возможность НРА в октябре - ноябре 1920 разгромить Вооруженные силы Восточной окраины атамана Семёнова.
В январе 1921 года прошли выборы в Учредительное собрание ДВР, задачей которого стала выработка конституции республики и создание её верховных органов.
Большинство в Учредительном собрании получили большевики в союзе с представителями крестьянских партизанских отрядов. За время своей деятельности (12 февраля-27 апреля 1921 года) Учредительное собрание приняло конституцию ДВР, согласно которой, республика являлась независимым демократическим государством, верховная государственная власть в котором принадлежит исключительно народу Дальнего Востока.
26 мая 1921 белогвардейцы при поддержке японских войск произвели во Владивостоке переворот, приведший к власти контрреволюционное "Приамурское правительство" во главе с присяжным поверенным Николаем Меркуловым. В публицистике времён Гражданской войны это государственное образование получило название «Чёрный буфер».
На Дайренской конференции в сентябре 1921 года Япония потребовала от правительства ДВР признания за Японией особых прав на Дальнем Востоке. Потерпев неудачу, Япония организовала вторжение в Приморье остатков семеновских и колчаковских войск (до 20 тыс.).
10-12 февраля 1922 года Народно-революционная армия под командованием В. К. Блюхера разбила белых в Волочаевском сражении. 14 февраля был освобожден Хабаровск. В Японии росло недовольство, широкие массы требовали прекращения интервенции. В этих условиях к власти пришел кабинет адмирала Като, сторонника перенесения экспансии на Тихий океан, который 24 июня заявил о решении эвакуировать Приморье к 1 ноября 1922.
Практически немедленно после белогвардейского переворота в мае 1921 года на территории Приморья возобновилось широкое партизанское движение, организованное партиями социалистической ориентации, в первую очередь, большевиками. Неспособность справиться с набирающим силу партизанским движением и поражения, понесённые от НРА, привели летом 1922 года к отставке меркуловского правительства и переходу реальной власти к генералу М. К. Дитерихсу, объединившему посты главы правительства и главнокомандующего и провозглашенному 23 июля 1922 года Правителем Приамурского государственного образования. Своим указом за № 1 Дитерихс переименовал Приамурское государственное образование в Приамурский земский край, а армию в Земскую рать. Земская рать с 1 сентября начала наступательную операцию против НРА ДВР, однако уже в октябре была практически полностью разгромлена.
25 октября 1922 года Владивосток был взят частями НРА, Дальневосточная Республика восстановила контроль над всей территорией Приморья и «Чёрный буфер» прекратил свое существование. В этот же день закончилась эвакуация японских войск. Оккупированным японцами оставался только Северный Сахалин, откуда японцы ушли только 14 мая 1925 года.
Рабочие Дальневосточной республики на митингах, организованных большевистскими активистами, требовали воссоединения с РСФСР. Народное Собрание ДВР II созыва, выборы в которое были проведены летом, на своей сессии 4 - 15 ноября 1922 года приняло постановление о своём роспуске и восстановлении Советской власти на Дальнем Востоке. Позже, поздно вечером 14 ноября 1922 года командиры частей НРА ДВР от имени Народного собрания ДВР обратились во ВЦИК с просьбой включить ДВР в состав РСФСР, который через несколько часов 15 ноября 1922 года включил республику в состав РСФСР как Дальневосточную область.
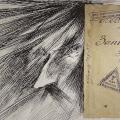 Записки сумасшедшего, главный герой, сюжет, история создания
Записки сумасшедшего, главный герой, сюжет, история создания Почему александр невский стал другом татарского хана и заключил союз с ордой Невский сын батыя
Почему александр невский стал другом татарского хана и заключил союз с ордой Невский сын батыя Воспоминания барнаульских ликвидаторов аварии на чернобыльской аэс
Воспоминания барнаульских ликвидаторов аварии на чернобыльской аэс