Анализ стихотворения заболоцкого. Художественные особенности в творчестве заболоцкого позднего периода
Уникальная способность простыми словами говорить о великом была присуща Н.А. Заболоцкому. Взаимоотношения человека и природы, внутренняя и внешняя красота, любовь – это лишь небольшой перечень тем, которые раскрывает поэт в своих произведениях. Мне же наиболее интересны стихи, посвященные творчеству, рассказывающие о том, как рождаются шедевры. Поэт как бы впускает читателей к себе в мастерскую.
В стихотворении «Читая стихи» перед нами предстает и поэт-мастер, и читатель одновременно. Н.А. Заболоцкий обладает уникальной способностью становиться на место другого: ребенка, старой актрисы, слепого. Он мастер перевоплощения, и везде искренен и убедителен «стих, почти не похожий на стих…».
«Любопытно, забавно и тонко» начинает Н.А. Заболоцкий раскрывать тему творчества. Это как бы прелюдия к разговору о большом и важном, и постепенно перед нами возникает портрет настоящего мастера, который понимает «бормотанье сверчка и ребенка», может воплотить в слове «мечты человечьи» и
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.
Его герой помогает понять назначение настоящего, подлинного искусства. Н.А. Заболоцкий четко разделяет истинную поэзию и «бессмыслицу скомканной речи». Признавая за последней «изощренность известную», автор задает риторические вопросы:
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?
И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?
Ответы ясны, и все же поэт следующей строфой еще раз подчеркивает, что «поэзия ставит преграды…», она предназначена
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.
Очень важна мысль о значимости русского слова, ибо оно «живая основа» творчества. Поэт обращает внимание на ответственность человека за сказанное и написанное, особенно это необходимо тем, кто сделал слово своей профессией. Ценно, когда оно становится не просто материалом, а настоящей поэзией. В последней строфе возвеличен
Полный разума русский язык.
Постигнуть же «разум языка» способен лишь человек, который «жизнью живет настоящей».
Слово «настоящий» мне кажется главным в этом стихотворении, хотя оно звучит всего один раз. Зато его заменяют контекстуальные синонимы: совершенство, «живая основа». Поэзия – это тоже настоящее, если отражает «мечты человечьи», а не является забавой.
Большое значение в этом стихотворении имеют метафоры, создающие образы живой природы («бормотанье сверчка и ребенка»), творческого процесса («бессмыслица речи», «разум языка»). Благодаря олицетворениям в произведении поэзия оживает: «ставит преграды нашим выдумкам», распознает истинных ценителей и надевающих «колпак колдуна».
Довольно интересен синтаксический строй стихотворения. Наличие риторических вопросов, а также восклицательного слова-предложения говорит об изменении в нем эмоционального фона: от спокойного повествования к размышлению и, наконец, чувственному взрыву. Интересно, что, являясь отрицанием, «нет» в данном случае утверждает мысль, прозвучавшую в риторических вопросах.
Н.А. Заболоцкий не экспериментирует с формой: классический катрен с чередующимся способом рифмовки, трехсложный анапест – все это делает стихотворение легким для чтения и восприятия.
Тема творчества не нова в литературе: и великий А.С. Пушкин, и противоречивый В.В. Маяковский затрагивали ее не раз. Н.А. Заболоцкий не исключение, он придал этой теме новое звучание, внеся исключительные, свойственные только ему мотивы. Поэт соединил классику и современность, недаром стихотворение, написанное в 1948 году, отчасти созвучно с лирической миниатюрой «Русский язык» И.С. Тургенева, созданной в конце девятнадцатого века. Чувство гордости возникает после прочтения подобных произведений.
Художественные приёмы, выделяемые в поздней лирике Н. Заболоцкого, не слишком множественны и разнообразны. Автор, как правило, старается избегать излишней гиперболизации, не часто используются многоплановые метафоры и т.п. На первый взгляд, зрелое творчество поэта тяготеет к некоторой примитивности. Однако именно простота и понятность стихотворений Заболоцкого являются его индивидуальными литературными качествами. Большое значение поэт уделяет семантической стороне языка. Его интересует слово как таковое, а конкретно - образность его значений, его смысловое наполнение. Важную роль в творчестве Заболоцкого играет такой художественный приём, как антитеза. Действительно, стихотворения поэта зачастую содержат в себе остроту противостояний природных явлений и явлений человеческого бытия, философских понятий и мировоззрений. Н. Заболоцкий - ищущий и вопрошающий созидатель, в чьих руках поэтический материал испытывает постоянные метаморфозы.
Например, стихотворение «О красоте человеческих лиц» состоит из двух противоположных частей. Первая часть монументальна, тяжеловесна. Под видом некой неподвижной глыбы автор вуалирует бедность человеческой души. Отсутствие духовного и эмоционального движения делает людей «заиндевелыми», не способными размышлять, чувствовать и сочувствовать:
Иные холодные, мёртвые лица
Закрыты решётками, словно темница.
Другие - как башни, в которых давно
Никто не живёт и не смотрит в окно.
Во второй же части, напротив, «малая хижина», которая «неказиста, небогата», символизирует внутреннее содержание человека. «Окошко» этой хижины посылает в мир «весеннее дыхание». Так и человек: если внутри он полон, то от него исходит свет и красота. Такие эпитеты, как «весенний день», «ликующие песни», «сияющие ноты» меняют настроение стихотворения, оно становится радостным, излучающим добро.
Таким образом, антитеза большого (даже громадного) и малого - это тот художественный приём, на котором базируется всё стихотворение. Однако это не означает, что других приёмов Заболоцкий в нём не использует. Напротив, стихотворение «О красоте человеческих лиц» весьма аллегорично, иносказательно. Ведь каждая «башня», «лачуга», «хижина» - это указание на того или иного человека, на его характер и внутренний мир.
Н. Заболоцкий использует меткие сравнения. В стихотворении «О красоте человеческих лиц» их можно наблюдать в достаточном количестве: «подобия жалких лачуг», «подобные пышным порталам», «словно темница», «как башни», «подобья песен». Необычно и то, что в произведении нет деления на строфы: стихотворение представляет собой одну строфу из четырех четверостиший. Это связано, вероятно, с тем, что всё стихотворение всецело сконцентрировано на одной основной мысли, оно базируется на одной основной идее.
Здесь же стоит вспомнить «Некрасивую девочку» Заболоцкого, в частности, яркое сравнение - «напоминает лягушонка». В этом стихотворении, как и во многих других, можно выделить тонкую иносказательность, глубокий психологический анализ: «чистый пламень» в качестве образа души, сравнение духовного наполнения с «сосудом, в котором пустота» или с «огнём, мерцающем в сосуде»:
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине её горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты её нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, -
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом её движенье.
Герои и образы Заболоцкого становятся максимально глубокими. Они ярче выражены и чётче очерчены поэтом по сравнению с его ранней лирикой.
Параллелизм как художественный приём также свойственен поздней лирике Н. Заболоцкого. Например, в стихотворении «Гроза идёт» (1957) мы видим яркий параллелизм явлений природы с душевным состоянием и мыслями самого автора.
Своеобразен и уникален в стихотворении образ тучи:
Движется нахмуренная туча,
Обложив полнеба вдалеке,
Движется, огромна и тягуча,
С фонарем в приподнятой руке.
В данных строках туча наделяется каким-то особым значением, можно сказать, что она одушевляется. Туча движется подобно ищущему или потерявшемуся страннику, подобно грозному вершителю судеб. В данном контексте этот образ читается не просто как природное явления, но как нечто большее.
Вышеназванному произведению свойственна особая метафоричность:
Вот он - кедр у нашего балкона.
Надвое громами расщеплен,
Он стоит, и мертвая корона
Подпирает темный небосклон.
Такой высокий уровень метафоризации, несомненно, в очередной раз позволяет выделить как особое и неповторимее явление позднюю лирику Н. Заболоцкого: «мертвая корона», подпирающая «темный небосклон».
В заключение поэтом проводится параллелизм между расколотым надвое деревом и собственным душевным состоянием. Однако это не только параллелизм, это ещё и аллегорическое высказывание автора, выражающее двойственность его мироощущения:
Пой мне песню, дерево печали!
Я, как ты, ворвался в высоту,
Но меня лишь молнии встречали
И огнем сжигали на лету.
Почему же, надвое расколот,
Я, как ты, не умер у крыльца,
И в душе все тот же лютый голод,
И любовь, и песни до конца!
Особое значение для творчества Н. Заболоцкого несёт философское осмысление природы, тесная взаимосвязь между природой и человеком, а также их взаимная отчуждённость. В стихотворении «Я не ищу гармонии в природе…» (1947) природа видится поэту огромным «миром противоречий», наполненным «бесплодною игрой» и «бесполезно» тяжким трудом.
Стихотворение наполнено олицетворяющими метафорами: «слепая ночь», «умолкнет ветер», «в тревожном полусне изнеможенья», «затихнет потемневшая вода». Здесь же имеет место такой художественный приём как сравнение. Автор сравнивает природу с «безумной, но любящей» матерью, которая не видит себя в этом мире без своего сына, которая без него не является полноценной:
Так, засыпая на своей кровати,
Безумная, но любящая мать
Таит в себе высокий мир дитяти,
Чтоб вместе с сыном солнце увидать.
В данном произведении можно выделить неявную антитезу, противопоставление добра и зла:
И в этот час печальная природа
Лежит вокруг, вздыхая тяжело,
И не мила ей дикая свобода,
Где от добра неотделимо зло.
Когда устав от буйного движенья,
От бесполезно тяжкого труда,
В тревожном полусне изнеможенья
Когда огромный мир противоречий
Насытится бесплодною игрой, -
Как бы прообраз боли человечьей
Из бездны вод встаёт передо мной.
Лирика поэта отличается контрастностью изображаемых образов. Например, в стихотворении «Где-то в поле возле Магадана…» (1956) создаётся невыносимое ощущение грусти и подавленности от страшного контраста замерзшей, завьюженной, неприветливой земли и огромного, бескрайнего светлого неба. Звёзды в данном стихотворении символизируют не только свободу, но и сам процесс освобождения. Пока старики ещё не отделены от реальности, от своих земных дел, звёзды на них не смотрят. Но в смерти они соединяются с природой, с целым миром, обретая свободу:
Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.
Лагерная тема в тесном сплетении с темой человеческого страдания отразилась в данном стихотворении. Горе двух «несчастных русских» стариков, у которых душа «перегорела», изображено на фоне «дивной мистерии вселенной».
Циклу «Последняя любовь» как «большому произведению», состоящему из отдельных частей, каждая из которых дополняет и определяет последующую, присуще эпическое начало. Здесь можно отметить стремление автора воспроизвести «текучий» процесс действительности. Вычерчивается последовательный событийный ряд истории «последней любви» и наличие общего обрамления.
Стихотворение «Можжевеловый куст» (1957) отличается особой мелодикой, образуемой определённым звуковым набором:
Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Лёгкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!
Эта строфа примечательна также наличием в ней эпитетов: «изменчивые уста», «лёгкий лепет», «смертоносная игла». Они создают ощущение некой динамики: тревожной, неуверенной и, вместе с тем, стремительной, решительной.
С самого начала стихотворения читатель ожидает какой-то беды, чему способствует весьма оригинальный эпитет - «металлический хруст», создающий тональность внутреннего разлада и внешнего предзнаменования:
Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.
Постоянная игра шипящих и твёрдых согласных с мягкими и сонорными создаёт в стихотворении ощущение двойственности. Читатель погружается вместе с лирическим героем в странную фантасмагорию, граничащую между сном и явью. И, как это часто использует в своём творчестве Заблоцкий, главная мысль заключена автором в последней строфе. И здесь динамика сменяется созерцанием и, в конце концов, прощением и отпущением:
В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст…
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!
Заболоцкий, как уже указывалось выше, мастер в области сравнений и иносказания. В последней строфе мы видим «облетевший садик», потерявший какую-либо жизнь в своих недрах. Душа лирического героя так же, как и этот садик опустела, а виной всему можжевеловый куст - читаемый неоднозначно и наиярчайший образ данного стихотворения.
Стихотворение «Старость» (1956) заключает цикл «Последняя любовь». Это своеобразный рассказ, некое эпическое повествование в стихах. Именно в нём так остро чувствуется та зрелость и то спокойствие, к которому пришёл автор. Созерцание и осмысление - вот что выходит на первый план в сравнении с его ранней лирикой:
Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, -
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.
Их речь уже немногословна,
Без слов понятен каждый взгляд,
Но души их светло и ровно
Об очень многом говорят.
В неясной мгле существованья
Был не приметен их удел,
И животворный свет страданья
Над ними медленно горел.
Более всего в этих строках выделяется противопоставление «неясной мглы существованья» и «животворного света». В связи с этим можно сказать и о так называемом «космическом» параллелизме, который в той или иной степени пронизывает позднюю лирику автора. В небольшом стихотворении Заболоцкому удаётся совместить всеохватывающее, панорамное видение мира с данной, можно сказать частной ситуацией.
Таким образом, мы видим, что поздняя лирика Н. Заболоцкого с одной стороны - явление невероятно глубокое с философской точки зрения, с другой стороны - достаточно незамысловатое с точки зрения своей художественной сущности, а точнее - в плане многообразия художественных приёмов и методов. Поэт пользуется многочисленными эпитетами, высока частотность употребления эпитетов-сравнений, сравнений, чуть реже встречаются метафоры. Можно отметить, что стихи Заболоцкого нередко содержат обращения и вопросы (чаще риторические), которое сближают авторское видение с читательским восприятием. В целом же, поэзия Заболоцкого чуждается чего-то сложного и путанного, он практически не гиперболизирует изображаемое, не занимается так называемым «плетением словес». Пунктуация поэта достаточно экспрессивна. Заболоцкий часто выносит основную идею произведения в самый конец, заключая её в последней строфе, подытоживая таким образом вышесказанное. Нельзя не отметить, что поэтика Заболоцкого была и остаётся уникальной, продолжает влиять на творчество и мышление многих поэтов и людей, связанных, так или иначе, со словом.
Стихотворение "Лесное озеро" (I, 198) — подлинный шедевр, жемчужина лирики Н. Заболоцкого. Написано стихотворение в 1938 году. Экспозиция стихотворения дает нам возможность увидеть мир природы, в которой царствует закон взаимного уничтожения, войны всех со всеми.
Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья, Где пьют насекомые сок из растенья, Где буйствуют стебли и стонут цветы, Где хищная тварями правит природа, Пробрался к тебе я и замер у входа, Раздвинув руками сухие кусты.Этот лик природы, явленный человеку, представляет собой вариацию тех представлений, которые были характерны для раннего творчества Заболоцкого. Вспомним хотя бы строки из поэмы "Лодейников":
Жук ел траву, жука клевала птица, Хорек пил мозг из птичьей головы, И страхом перекошенные лица Ночных существ глядели из травы.Интересно, что в анализируемом нами отрывке "буйство стеблей", и "стон цветов", и "битвы деревьев", и "волчьи сраженья" как бы заслоняют кажущуюся вполне невинной строчку о том, как "пьют насекомые сок из растенья". Но эта строка "невинна" только на первый взгляд. Образы еды и питья у раннего Заболоцкого всегда однозначно связаны со смертью, и цитата из поэмы "Лодейников" показывает нам, что взаимная цепь пожирания отравляет видимую красоту и гармонию природы, в которой зло и добро неотделимы друг от друга.
Но вот оказывается, что в этой самой косной и страшной природе выделяется некий особый участок, живущий по законам, отличным от законов "хищной природы". Это — лесное озеро. Интересно проследить все метаморфозы этого образа, которые мы встречаем в стихотворении. Итак, в самом его начале озеро — "хрустальная чаша во мраке лесном". Далее образ озера трансформируется, и перед нами — целомудренная невеста "в венце из кувшинок, в уборе осок, в сухом ожерелье растительных дудок". Интересно, что рядом с озером изменяются и сами законы жизни "хищной природы":
Но странно, как тихо и важно кругом! Откуда в трущобах такое величье? Зачем не беснуется полчище птичье, Но спит, убаюкано сладостным сном? (I, 198)Дальнейшая трансформация образа лесного озера идет по двум смысловым направлениям. Во-первых, "хрустальная чаша" превращается в купель, по краям которой, как свечи, стоят сосны, "смыкаясь рядами от края до края". Во-вторых, перед читателем последовательно разворачивается сравнение озера с оком больного человека:
Так око больного в тоске беспредельной При первом сиянье вечерней звезды, Уже не сочувствуя телу больному, Горит, устремленное к небу ночному. (I, 199)Если вдуматься в это сравнение, то первое, на что мы обращаем внимание, — это скрытое отождествление больного тела человека с "больным телом" природы, и только око, несущее в себе духовное начало, предчувствует иную жизнь, жизнь, соединенную не с землей, а с небом. Это око и есть озеро. Следовательно, закон жизни "лесного озера" иной, чем закон жизни окружающей его "больной" природы, и этот закон — духовен по своей природе, которая жаждет исцеления. Последняя строфа стихотворения ("И толпы животных и диких зверей, // Просунув сквозь елки рогатые лица, // К источнику правды, к купели своей // Склонялись воды животворной напиться") дает нам надежду на то, что зло, лежащее в глубине природы, может быть преодолено и исцелено. Потрясающая по своей силе и метафорической дерзости строка о животных, которые, "просунув сквозь елки рогатые лица", склоняются к животворной воде, тоже показывает нам, что между озером и остальной природой — некая метафизическая преграда, которую нужно преодолеть. Эта преграда существует потому, что два пространства — пространство природы, коснеющей во зле, и пространство озера, соединяющего в себе Истину, Добро и Красоту, так отличаются друг от друга, что их разделяет частокол елок. Сквозь него нужно прорваться, преодолеть эту преграду.
Интересно, что в стихотворении "Бетховен" мы встречаемся с похожей смысловой формулой. Прорыв к "мировому пространству" так описан Заболоцким:
Дубравой труб и озером мелодий Ты превозмог нестройный ураган, И крикнул ты в лицо самой природе, Свой львиный лик просунув сквозь орган. (I, 198)Характерна для этого стихотворения и лексика света, которая пронизывает все пространство этого текста. "Хрустальная чаша" только "блеснула" в начале этого стихотворения, а потом озеро "в тихом вечернем огне" "лежит в глубине, неподвижно сияя", "бездонная чаша прозрачной воды // сияла и мыслила мыслью отдельной".
Этот без преувеличения неукротимый поток света льется на читателя из самых разных стихов позднего Заболоцкого. В стихотворении "Соловей" природа уподобляется "сияющему Храму", "сияющий дождь на счастливые рвется цветы" в стихотворении "Гроза", "блистает лунным серебром // замерзший мир деревьев и растений" в стихотворении "Еще заря не встала над селом", "колеблется розовый, немигающий утренний свет" в стихотворении "В этой роще березовой". Эти примеры можно продолжать и продолжать. Произошло возвращение Заболоцкого к традиционной метафизике света, который преображает, просветляет, оживляет материю. Поэтическая мысль Заболоцкого в стихотворении "Лесное озеро" близка богословскому пониманию Крещения. Крещение — новое рождение человека, рождение духовное. Природа, которая припадет к озеру, как к купели, тоже должна родиться заново.
Читайте также другие статьи о жизни и творчестве Н. Заболоцкого.
В этом стихотворении Заболоцкого происходит встреча жизни со смертью как встреча лирического героя, Прохожего, с памятником. Стихотворение «Прохожий» Заболоцкого является одним из высших и общепризнанных достижений поэта, ему уже уделено немалое внимание и в литературе о Заболоцком, и в общей литературе о проблемах поэтики.
Произведение имеет ясный лирический сюжет, — внешний, который можно изложить и как некую фабулу, прозой, и внутренний, в движущемся сплетении двух трагических человеческих судеб — юноши-летчика, погибшего на войне, и Прохожего. Личная судьба Прохожего выражена в затексте и глубоко просвечивает сквозь как будто случайную беглую зарисовку, окрашенную сдержанным авторским переживанием. И в этом сюжете раскрывается одна из главных тем всего Заболоцкого — тема смерти и бессмертия, пути к бессмертию, включающая в себя и ряд более конкретных и разных тем — памяти войны, незримой переклички бедствий войны и «тысячи бед» Прохожего, продолжения жизни человека, прошедшего через эти беды. И совмещены все темы в едином лирическом событии — переживании — истории встречи и беседы двух душ.
Беседа включена в ход внешнего сюжета, рассказа о том, как кто-то, никак не названный и ничем прямо не охарактеризованный, шел ночью, пешком, откуда-то куда-то и по дороге проходил через кладбище. Описание-рассказ движется как путевая запись на ходу, в мысленном дневнике, в строгом временном порядке, — в определенном хронотопе, хотя и с некоторым полем его неопределенности. Получается стихотворение-дорога, с некоторой задержкой в пути, стихотворение, в котором бытовая достоверность неожиданно переходит в сказочную беседу, а затем опять возвращается к исходной бытовой реальности. В этой реальности есть ясный исходный пункт, с наиболее точно определенным хронотопом. Он также дан в движении.
Дорога начинается с дороги, ход путника — с хода по шпалам железной дороги, с некоторой даже географической привязкой. На какой-то станции, откуда уже ушел предыдущий состав «на станцию Нара». Станция Нара — это географическая реалия, одна из железнодорожных станций недалеко от Москвы. По сообщению Е. В. Заболоцкой, речь шла о неоднократном пешем пути поэта от станции Дорохове, недалеко от станции Нара, к себе домой в Переделкино, через мост, упомянутый в стихотворении, и кладбище, упомянутое в стихотворении, по дороге, местами напоминающей аллею, как в стихотворении.
Но для восприятия-сопереживания стихотворения читателем существенна не географическая точность этой реалии, а как бы точность, воображаемая точность описания некоего путешествия. В этом поэтика «Прохожего» продолжает традиции повествовательной и очерковой лирики 30-х годов и военного времени. Исходная реалия все же затуманена, и «очерковое начало» играет роль лишь внешней, хотя необходимой, оболочки. Главная тема сплетена в узел многозначных тем, симфонию, включая ночной пейзаж, житейский случай, впечатления ночного пешехода, контрастный переход от бытовой картинки железнодорожной станции к картине кладбища, где, как бы впервые, пешеход встречается с памятником летчику, и жизнь, текущая жизнь с ее повседневностью встречается со смертью и памятью о жизни. И в этой встрече рождается особое переживание, «нежданно мгновенного, пронзающего душу покоя», даже «дивного». Ибо в нем смолкают, преодолеваются тревоги, и как-то продолжается жизнь, и живут весенние почки, и сам мертвый летчик, как живой, беседует с живой душой, и после смерти продолжает жить его юность.
Это особое переживание — не просто чувство страха или униженности перед смертью, и не отрицание телесного во имя высшей иерархии духовного (как считает Ю. Лотман), а открытие высшей духовности в телесном — телесном Прохожем, телесном памятнике летчика, телесных весенних почках, живой беседе живого и мертвого, конечного и бесконечного, мгновенного и вечного, покоя и движения, телесного чертога вселенной. Поэтому подключен еще и образ весенней природы, весенней глуши, контрастный и слитный с образом кладбища. Включена и еще более глубинная, подспудная тема личности и судьбы самого Прохожего, исполненного душевной тревоги, с его «тысячами бед».
Внутреннее движение стихотворения, его внутренний сюжет представляет собой скрытое движение переживаний Прохожего. Его небольшое путешествие, дорожная встреча, беседа с невидимым летчиком перерастает в символ большой и трудной человеческой жизни, шагающей сквозь «тысячи бед». И в ходе маленького путешествия от станции Нара беды хоть совсем и не уходят от него, но выявляется та сила, которая их преодолевает. В замечательном заключительном образе стихотворения сливается движение всех его тем и подтем; горе, тревоги человека как бы отделяются от него самого, они превращаются только в «собак», которые бегут вслед.
Образ Прохожего распадается на «три сущности», как пишет Лотман, но в этом «распадении» возникает и возрождается новая цельность, освобождается главная сущность, «живая душа». И думается, не видна тут, вопреки мнению Ю. Лотмана, иерархия трех «ярусов», в которых душа расположена «на уровне деревьев»; но есть многообразное единство человека с самим собой, с природой, с другими людьми, совмещающее и преодолевающее противоположность самой жизни и смерти, весны и кладбища, личности
и памятника.
Происходит одно из чудес Заболоцкого. Двойное чудо, перекликающееся с чудом «Я убит подо Ржевом...» и других трансформаций мертвых в живых и наоборот, но с дополнительным, присущим только поэзии Заболоцкого, чудом. Происходит воскресение мертвого и одновременно отделение у живого души от тела, причем то и другое продолжают жить как бы отдельно и материально, сливаясь в этой отдельности в одно движущееся «я», хотя также отделенное от авторского «я», но выражающее именно его, его целостность.
В развертывании поэтического события совмещаются движение бытовой картинки, пейзажа, размышления, символической сказочной беседы, потока разнородных и разномасштабных предметных деталей («треух», «мешок», «шпала», «луна», «амбар» и т. д.) — их переклички. И в этом потоке естественно, изнутри, возникают неожиданные и даже парадоксальные сопоставления, начиная со сравнения сосен со скопищем душ и кончая сравнением тревог человека с собаками, бегущими ему вослед. Это — очень специфические для Заболоцкого метафоры, в которых определенные переживания, душевные состояния как бы отделяются от человека и заново материализуются. И совмещено все это движение разнородных, но связанных взаимными перекличками, отражениями потоков и предметов в едином образе Прохожего, который, с одной стороны, безличен, а с другой — наделен зримыми вещественными приметами («треух», «солдатский мешок»), И несколькими деталями-намеками передана его закрытая от нас, сложная внутренняя жизнь. И это неведомое является скрытой почвой лиризма эпизода, внешне описательного, маленького, бытового — и сказочного, чем-то таинственного, темного. Но тем не менее и даже именно этим просветляющего душу.
Движение интонации соединяет предельную простоту, строгую организованность, сжатую точность классического стиха с многослойностью, смелостью переходов отдельных ассоциаций, сдвигов значений слов поэтического языка XX века. Разнообразно, но просто перечислены предметные детали в хронологическом порядке. И вдруг внезапно и незаметно вырастают в этом «протоколе» неожиданные метафоры, выводящие сразу далеко-далеко за пределы описываемого, и неожиданные странные встречи, — но при сохранении той же внешне спокойной интонации, а в последней строфе — интонация как бы примечания и заключительного сообщения. Так создается особый эффект реальности и конкретности встречи человека с бесконечностью.
Соответственно вся звуковая организация представляет еще один вариант сочетания гармонического многообразия и звуковых доминантных комплексов, акцентирующих движение смысла-переживания. Выделяются три неравные, но равнозначные по рангу смыслов основные части стихотворения и их дополнительные подразделения. Первая часть, правильно выделенная Ю. Лотманом, объемом в четыре строфы, имеет более конкретно-описательный характер; сравнения появляются в конце третьей строфы, где происходит переход от обычного бытового путешествия к встрече с кладбищем, и это сравнение уже представляет собой типичное для Заболоцкого олицетворение и подготавливает появление во второй части стихотворения центрального мотива души на кладбище. Первые 10 строк первой части дополнительно выделяются как целое тем, что представляют собой последовательное описание движения Прохожего, приблизительно в одном и том же темпе. Эти 10 строк выделяются и звуковой организацией. Четвертая строфа первой части ясно отличается от предыдущих появлением центрального образа стихотворения, но связана с ними преобладанием описательно-конкретных деталей. Это сочетание особенно выделяет эту строфу как переломный момент всего движения интонации. Вторая часть представлена тремя строфами, в которых описываются уже не столько предметы, сколько воздействие памятника летчику и всего кладбища на «живую людскую душу». И впечатление сформулировано как комментарий незримо присутствующего «я» — и Прохожего, и автора. Соответственно возникает широко обобщающая и возвышающая метафора — «темный чертог вселенной», вместе с углублением психологической характеристики особого состояния души, «нежданно мгновенного», концентрации времени в нем. Звуковая волна при этом несколько спадает; после четвертой строфы ударные гласные чередуются более гармонично, но с постоянным участием [у].
Душа наделена признаками живой личности, смолкающей с опущенным взором, живого собеседника с ожившим летчиком. Таким образом, осуществляется их взаимная трансформация в предпоследней строфе стихотворения. Видимый монумент (слово подчеркивает торжественность минуты и значение подвига летчика) превращается в живого невидимого юношу, а его беседа с живой душой как бы материализуется, и возникает новая конкретно-описательная деталь-метафора, переходящая в олицетворение, — говорящий памятник с мертвым пропеллером, сама кладбищенская природа тихо участвует в этой беседе, и ее звучание отмечено повышенной концентрацией [ш] и [ч], [j], [л], [м], а участие в разговоре «почек», их легкое шуршание вносит мотив надежды, весны, воскресения в «темный чертог».
Заключительная строфа, всего четыре строчки, представляет самостоятельную часть, ибо завершает разговор души на кладбище и контрастирует с ним; вместе с тем возвращается к исходному образу движущегося Пешехода и его «тревоги», перекликается с первой строфой, как верно отмечено Ю. Лотманом. Образ «тысячи бед» приподымает образ Путника, шагающего через них, но образ «собак» напоминает о продолжающейся суровой обыденной реальности. Сравнение может быть истолковано двояко — и как преодоление Путником его горя и бед, и как (по мнению Е. В. Заболоцкой) напоминание об их настойчивости, неотвязно. Она выделяется и указанной сквозной рифмой на [э], преобладанием [э] и [о] среди ударных гласных, а в составе согласных максимальной концентрацией [ н + н ’], высокими частотами [л] и [j], что гармонирует со сменой настроения при выходе на кладбище.
По-видимому, эта двузначность и создает необходимое лирическое поле значений, открытости разных возможностей. Сочетание в этой строфе продолжения, возвращения и развития главного мотива судьбы Прохожего выражено, акцентировано структурой и звуковым составом, его соотношением с первой строфой и всем ходом стихотворения. Повторены слова-окончания двух строк первого четверостишия и связанная с ними рифма, что выделяет их смысловую значимость и создает стыковку начала и конца стихотворения. Но повторены с изменением падежей и в обратном порядке. Ключевые слова — «дорога», «горе», «тревога» — скреплены рифмой и другими звуковыми связями, консонируют и ассонируют с звуковой системой всего стихотворения. Рифма «бед — вослед» ассоциируется с другой системой рифм, ассонансов, консонансов, проходящих через все стихотворение, «субдоминантой» его музыкальной структуры.
С другой стороны, последняя строфа включает эти повторяющиеся смыслы и звуки в совершенно новый комплекс, и семантический, и звуковой, что подчеркнуто и другой рифмовкой других строк четверостишия. Построение по принципу «неполного кольца» придает всей структуре стихотворения элементы спиральности и диссимметрии. Что также выражает, акцентирует средствами стиха и процесс преодоления Прохожим его горя, тревог, бед, и трезвость сознания им — и лирическим «я», — что горе и тревоги все же еще остаются, хотя и превращаются только в собак, бегущих вослед.
Итак, еще один вариант разговорно-медитативной интонации. Характерно, в частности, при четкой организованности — отсутствие тех многочисленных повторов, которые мы наблюдали в других вариантах лирики, со сходными тематическими мотивами и скорбно-задумчивыми интонациями. Экспрессивные элементы здесь больше подчинены движению неторопливого описания, раздумья, с последующим более прямым лирическим комментарием, сконцентрированным в заключительном сравнении, афористически объединяющим психологическую и предметную конкретность, основные элементы интонации стихотворения как целого. Огромность человеческого горя, тревог, тысяч бед и сдержанность разговора о них выражает особенности творческой личности и судьбы Заболоцкого. И все движение сконцентрировано в образах двух душ — летчика, напоминающего об огромных горестях и бедах войны, и Прохожего, с его «тысячами бед». Общение этих двух душ, с и х пережитыми и продолжающимися бедами, раскрывает человеческую общность, преодолевающую границы смерти и жизни в особом душевном событии. Открывается и новая возможность развития реалистической лирической символики.
Стихотворение в целом превращается в развернутую метафору-символ пути человека и его души, путей жизни, путей смерти, путей расширения человеческой личности, ее коллективности, путей совмещения жизни отдельного человека со всей жизнью на земле, с «душами» сосен, беседами людей, шуршанием почек. Реалистическая символика вырастает из полноты точного психологического и предметного описания и ассоциативных связей лирического события.
С точки зрения истории судеб лирических жанров, стихотворение «Прохожий» Заболоцкого стало новым образцом слияния повествовательной лирики и лирики другого человека таким образом, что этот другой, как бы независимый от лирического «я», лирический герой — Прохожий, становится только псевдонимом лирического «я». Отделение себя от себя, которое характерно для лирики Заболоцкого 30-х годов, теперь доходит до превращения определенного своего психологического состояния, переживания в некую особую личность. Происходит и материализация явления, которое приподымает человека над своим «я» и позволяет ему удваивать себя в едином лирическом высказывании. Это удваивание проходит дальше через все творчество Заболоцкого до его последнего стихотворения 1958 года, в котором он призывал: «не позволяй душе лениться», разговаривал со своей душой, как с особой многоликой личностью — и рабыней и царицей. В «Прохожем» «я» не только удваивается, но и утраивается, ибо Прохожий — это то же «я», но как «он». Изображение самого себя в третьем лице имеется и в другом стихотворении Заболоцкого этих лет — «Приближался апрель к середине...» (1948), но там «я» упоминает и о себе прямо, как «я».
Таким образом, в «Прохожем» и ряде других стихотворений Заболоцкого этих лет формируется еще один новый тип лирического стихотворения, который трудно непосредственно сопоставить с какими-либо образцами и русской и мировой лирики, несмотря на столь подчеркнутую связь с классической традицией. С долей условности можно сопоставить его с традицией медитативной элегии, тех ее разновидностей, где размышление связано с воспоминанием и элементами повествования, как в пушкинском «Вновь я посетил...», или описанием в настоящем времени, как в пушкинском «Когда за городом задумчив я брожу...» (также, кстати сказать, с мотивом кладбища), или с традицией сюжетно-психологической лирики, в частности со стихотворением Лермонтова «В полдневный жар, в долине Дагестана...», с его мотивом двойного существования человека в разных образах самого себя. И с традициями сюжетно- психологической лирики 30-х годов, ее опыта соединения бытовой конкретности и символики, классической организованности и смелой метафоричности. Но здесь в еще большей их слитности и многосоставности, с большей детализацией конкретно-описательных и как бы очерковых элементов. А по сравнению с другим главным направлением лирики этого времени, которое мы видели в стихотворении Твардовского, здесь, как и в лирике Заболоцкого 30-х годов, больше выявилось обобщение, философское и символическое, — проблемы времени и личной судьбы выражены в более косвенной форме. И образ Прохожего, и весь лирический сюжет содержат в себе элемент тайны, многоплановой недоговоренности.
Почти одновременно с «Прохожим» Заболоцкий создал ряд стихотворений с более прямым изображением потока окружающей жизни — природы, общества. Но общим с поэтикой «Прохожего» было сочетание предметной и психологической конкретности с широтой и углубленностью обобщающей мысли; точности и взвешенности слова с его смелой ассоциативностью, метафоричностью, символикой; высокой организованности стиха, подчас даже жестко регламентированной, с внутренней энергией и свободой его движения; его мелодии и живописи — со сдержанностью; постоянной соотнесенности «я», часто как бы незримого, какой-то объективной ситуацией и большим потоком бытия, часто с другим человеком; многосоставности, разноликости и целостности самого «я».
Прохожий - Н.А. Заболоцкий (анализ поэтического текста)
|
ПРОХОЖИЙ Исполнен душевной тревоги, Уж поздно. На станцию Нара Свернув в направлении к мосту, Тут летчик у края аллеи И в темном чертоге вселенной Тот дивный покой, пред которым, И в легком шуршании почек А тело бредет по дороге, |
Стихотворение «Прохожий» представляет известные трудности не только для литературоведческого анализа, но и для простого читательского понимания, хотя уже первого знакомства с текстом достаточно, чтобы почувствовать, что перед нами - один из поэтических шедевров позднего Заболоцкого. Читателю может показаться непонятным, как связаны между собой «прохожий» и «невидимый юноша-летчик» и почему «прохожий», представший в начале стихотворения перед нами в подчеркнуто бытовом облике («в треухе, с солдатским мешком»), в конце неожиданно противопоставлен убитому летчику как «тело»:
А тело бредет по дороге…
Предварительной работой, которая должна предшествовать анализу текста этого стихотворения, является реконструкция общих контуров модели мира по Заболоцкому. Эта система, восстанавливаемая на основании других текстов поэта, являющихся для данного стихотворения контекстом, по отношению к анализируемому стихотворению выступит в качествеязыка , а стихотворение по отношению к ней - в качестветекста .
Заболоцкий пережил длительную и сложную эволюцию, охватывающую все его творчество и до сих пор еще далеко не полностью исследованную. Тем более заметно то, что некоторые фундаментальные представления его художественной системы оказались на редкость устойчивыми. Прежде всего, следует отметить высокую моделирующую роль оппозиции «верх - низ» в поэзии Заболоцкого. При этом «верх» всегда оказывается синонимом понятия «даль», а «низ» - синонимом понятия «близость». Поэтому всякое передвижение есть в конечном итоге передвижение вверх или вниз. Движение, по сути дела, организуется только одной - вертикальной осью. Так, в стихотворении «Сон» автор во сне оказывается «в местности безгласной». Окружающий его мир прежде всего получает характеристикудалекого («Я уплывал, я странствовал вдали…») иотдаленного (очень странного). Но дальше оказывается, что этот далекий мир расположен бесконечновысоко :
Мосты в необозримой вышине
Висели над ущельями провалов.
Земля находится далеко внизу:
Мы с мальчиком на озеро пошли,
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто, долетевшее с земли,
Не торопясь, рукою отодвинул.
Эта вертикальная ось одновременно организует и этическое пространство: зло у Заболоцкого неизменно расположено внизу. Так в «Журавлях» моральная окраска оси «верх - низ» предельно обнажена: зло приходит снизу, и спасение от него - порыв вверх:
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось
…………………………………
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.
…………………………………
Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:
Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе…
Совмещение высокого и далекого и противоположная характеристика «низа» делают «верх» направлением расширяющегося пространства: чем выше, тем безграничнее простор - чем ниже, тем теснее. Конечная точка «низа» совмещает в себе все исчезнувшее пространство. Из этого вытекает, что движение возможно лишь наверху и оппозиция «верх - низ» становится структурным инвариантом не только антитезы «добро - зло», но и «движение - неподвижность». Смерть - прекращение движения - есть движение вниз:
А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно…
В «Снежном человеке» привычная для искусства XX в. пространственная схема: атомная бомба как смертьсверху - разрушена. Герой - «снежный человек» - вынесен вверх, и атомная смерть приходитснизу , и, погибая, герой упадетвниз .
Говорят, что в Гималаях где-то,
Выше храмов и монастырей,
Он живет, неведомый для света,
Первобытный выкормыш зверей.
…………………………………
В горные упрятан катакомбы,
Он и знать не знает, чтопод
ним
1
Громоздятся атомные бомбы,
Верные хозяевам своим.
Никогда их тайны не откроет
Гималайский этот троглодит,
Даже если, словно астероид,
Весь пылая,в бездну
полетит.
Однако понятие движения у Заболоцкого часто усложняется в связи с усложнением понятия «низа». Дело в том, что для ряда стихотворений Заболоцкого «низ» как антитеза «верху - пространству - движению» - не конечная точка опускания. Связанный со смертью уход в глубину, расположенную ниже обычного горизонта, в поэтическом мире Заболоцкого неожиданно характеризуется признаками, напоминающими некоторые свойства «верха». «Верху» присуще отсутствие застывших форм - движение здесь истолковывается как метаморфоза, превращение, причем возможности сочетаний здесь не предусмотрены заранее:
Я хорошо запомнил внешний вид
Всех этих тел, плывущих из пространства:
Сплетенье ферм и выпуклости плит
И дикость первобытного убранства.
Там тонкостей не видно и следа,
Искусство форм там явно не в почете…
(«Сон»
)
Это переразложение земных форм есть вместе с тем приобщение форм к более общей космической жизни. Но то же самое относится и к подземному, посмертному пути человеческого тела. В обращении к умершим друзьям поэт говорит:
Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где все разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба - лишь могильный холм…
(«Прощание с друзьями»
)
Таким образом, в качестве неподвижного противопоставления «верху» выступает земная поверхность - бытовое пространство обыденной жизни. Выше и ниже его возможно движение. Но движение это понимается специфически. Механическое перемещение неизменных тел в пространстве приравнивается к неподвижности; подвижность - это превращение.
В связи с этим в творчестве Заболоцкого выдвигается новое существенное противопоставление: неподвижность приравнивается не только к механическому перемещению, но и к всякому однозначно предопределенному, полностью детерминированному движению. Такое движение воспринимается как рабство, и ему противопоставляется свобода - возможность непредсказуемости (в терминах современной науки эту оппозицию текста можно было бы представить как антиномию «избыточность - информация»). Отсутствие свободы выбора - черта материального мира. Ему противостоит свободный мир мысли. Такая интерпретация этого противопоставления, характерная для всего раннего и значительной части стихотворений позднего Заболоцкого, определила причисление им природы к низшему, неподвижному и рабскому миру. Этот мир исполнен тоски и несвободы и противостоит миру мысли, культуры, техники и творчества, дающим выбор и свободу установления законов там, где природа диктует лишь рабское исполнение.
И уйдет мудрец, задумчив,
И живет, как нелюдим,
И природа, вмиг наскучив,
Как тюрьма, стоит над ним
(«Змеи»
).
У животных нет названья.
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье -
Их невидимый удел.
…………………………………
Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма
(«Прогулка»
).
Те же образы природы сохраняются и в творчестве позднего Заболоцкого. Культура, сознание - все виды одухотворенности сопричастны «верху», а звериное, нетворческое начало составляет «низ» мироздания. Интересно в этом отношении пространственное решение стихотворения «Шакалы». Стихотворение навеяно реальным пейзажем Южного берега Крыма и, на уровне описываемой поэтом действительности, дает заданное пространственное размещение - санаторий находитсявнизу , у моря, а шакалы воютнаверху , в горах. Однако пространственная модель художника вступает в противоречие с этой картиной и вносит в нее коррективы. Санаторий принадлежит миру культуры - он подобен электроходу в другом стихотворении крымского цикла, о котором сказано:
Гигантский лебедь, белый гений,
На рейде встал электроход.
Он всталнад бездной
вертикальной
В тройном созвучии октав,
Обрывки бури музыкальной
Из окон щедро раскидав.
Он весь дрожал от этой бури,
Он с морем был в одном ключе,
Но тяготел к архитектуре,
Подняв антенну на плече.
Он в море былявленьем
смысла
…
(«На рейде»
)
Поэтому стоящий у моря санаторий назван «высоким» (электроход - «над бездной вертикальной»), шакалы же, хотя и находятся в горах, помещены вниз верха :
Лишь там,наверху, по
оврагам
…
Не гаснут всю ночь огоньки.
Но, поместив шакалов в овраги (пространственный оксюморон!), Заболоцкий снабжает их «двойниками» - квинтэссенцией низменной животной сущности, помещенной еще глубже:
И звери по краю потока
Трусливо бегут в тростники,
Где в каменных норах глубоко
Беснуются их двойники.
Мышление неизменно выступает в лирике Заболоцкого как вертикальное восхождение освобожденной природы:
И я живой скитался над полями,
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецовпрозрачными
столбами
Вокруг меня вставали до небес
.
И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды.
…………………………………
И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!
(«Вчера, о смерти размышляя…»
)
Правда, в дальнейшем у Заболоцкого имела место и известная эволюция. Поэт понял опасность негибкой, косной, полностью детерминированной мысли, которая таит в себе гораздо меньше возможностей, чем самая грубая и вещная природа. В «Противостоянии Марса» впервые появляется у Заболоцкого мысль об угрозе догмы, застывшей мысли и «разум» характеризуется без обычной для этого образа положительной эмоциональной окраски:
Дух, полный разума и воли,
Лишенный сердца и души…
He случайно в стихотворении резко меняется обычная для поэта пространственная расстановка понятий: зло перемещается вверх, и это, вместе с отрицательной оценкой разума, делает текст уникальным в творчестве Заболоцкого:
Кровавый Марс из бездны синей
Смотрел внимательно на нас.
И тень сознательности злобной
Кривила смутные черты,
Как будто дух звероподобный
Смотрел на землю с высоты.
Всем формам неподвижности: материальной (в природе и быту человека), умственной (в его сознании) - противостоит творчество. Творчество освобождает мир от рабства предопределенности и создает свободу возможностей, казавшихся невероятными. В этой связи возникает и особое понятие гармонии. Гармония у Заболоцкого - это не идеальные соответствия уже готовых форм, а создание новых лучших соответствий. Поэтому гармония всегда - создание человеческого гения. В этом смысле стихотворение «Я не ищу гармонии в природе…» - поэтическая декларация Заболоцкого. Не случайно он ее поместил первой (нарушая хронологический порядок) в сборнике стихов 1932–1958 гг. Творчество человека - продолжение творящих сил природы, их вершина (в природе также присутствует большая и меньшая одухотворенность; озеро в «Лесном озере» гениальнее, чем окружающая его «трущоба», оно «горит, устремленное к небу ночному», «Бездонная чаша прозрачной воды / Сияла и мыслила мыслью отдельной»).
Таким образом, основная ось «верх - низ» реализуется в текстах через ряд вариантных противопоставлений.
Такова общая система «поэтического мира» Заболоцкого. Однако художественный текст - не копия системы: он складывается из значимых выполнений и значимых невыполнений ее требований. Рассмотрим в этом плане интересующее нас стихотворение.
Первой операцией семантического анализа является сегментирование текста, затем следует сопоставление сегментов по разным уровням (или сегментов разных уровней) с целью выявления дифференциальных признаков, которые и являются носителями значений.
Сегментация текста в данном случае не представляет затруднений: стихотворение делится на строфы, которые, как правило, являются и предложениями. На этом фоне выделяются вторая строфа, состоящая из трех предложений, и пятая и шестая строфы, образующие вместе одно предложение (в дальнейшем мы увидим значимость этого факта). Наименьшим сегментом на уровне композиции является стих, который на всем протяжении текста также оказывается синтагмой. Самое крупное членение текста - разделение его на две части. Граница сегментов проходит через середину текста (1–4 и 5–8 строфы) и определяется интуитивно - по содержанию: при первом же внимательном чтении нетрудно убедиться, что начало стихотворения имеет подчеркнуто бытовое содержание, в то время как после стиха «И в темном чертоге вселенной» описание уступает место рассуждению. Дальнейший анализ должен подтвердить или опровергнуть это читательское ощущение и тем самым обосновать или отбросить предложенный характер членения текста. Если произвести подсчет вещественно-конкретных и абстрактных существительных в первой и второй половинах текста, то получаются выразительные цифры:
При этом в каждом случае будет существовать, составляя ядро группы, определенное количество исконно вещественных или исконно абстрактных по значению существительных. Вокруг них циклизируются лексемы, получающие такое значение в данном контексте. Так, слова со значением пейзажа в первой половине будут иметь вещественное значение, а во второй - отвлеченное. «Тело» и «собаки» в последней строфе получат семантику, противоположную вещественной.
За этим - внешним - различием стоит более глубокое: первая половина стихотворения переносит нас в предельно конкретное пространство. Это пространство, во-первых, настолько конкретизировано географически, что может восприниматься лишь как изображение одного единственного и точно определяемого места на поверхности земли. Еще первый публикатор стихотворения Н. Л. Степанов сделал точное наблюдение: «До предела конкретно показано переделкинское кладбище в “Прохожем”» 2 . Поскольку для поэта было, видимо, существенным, чтобы эта особенность описания была ясна и читателю, не знакомому с переделкинским пейзажем, он ввел в географию этой части текста имя собственное:
Уж поздно. На станцию Нара
Ушел предпоследний состав…
Читатель может не знать, где расположена станция Нара, как он может не знать, почему Пушкин в послании В. Л. Давыдову называет М. Ф. Орлова «обритым рекрутом Гименея», который «под меру подойти готов». Но как в стихотворении Пушкина он не может не почувствовать интимный намек, понятный узкому, почти конспиративному кружку, и, следовательно, безошибочно воспринять установку текста на интимность, неповторимую единственность атмосферы, в которой стихотворение живет, так и в тексте Заболоцкого читателю делается ясна географическая единственность того места, куда привел его поэт. Он не знает, где находится Нара, и не имеет никаких связанных с нею личных ассоциаций. Но он прекрасно знает по личному опыту, что такое чувство географической единственности, связываемое для каждого человека с тем или иным местом. А введение в текст имени собственного - названия мелкой и мало известной станции - передает эту установку на пространственную единственность.
Пространственная конкретность дополняется вещественной: мы уже приводили количественные показатели конкретности имен, однако еще более значимо накопление признака вещественности в значениях отдельных слов, распространяемых на стихи в целом. «Треух», «солдатский мешок», «шпалы», «ворох лент» - не только вещественны по своему значению, но и вносят семантический признак бедного, обыденного, непарадного быта. А обыденные вещи в исторически сложившейся иерархии наших представлений более вещественны, чем праздничные.
Интересно создается значение вещественности там, где слово само по себе может иметь или не иметь этого признака. «Луна» помещается между «краем амбара» и «кровлями» и тем самым вводится в контекст вещей из все того же реального и скудного мира. «Весенняя глушь» в отношении к противопоставлению «конкретное - абстрактное» амбивалентна - может принимать любое значение. Но в данном контексте на них влияет вещественное окружение («мост», «монумент», «ворох лент» и др.) и то, что в текст вводится наделенное приметами конкретной местности отношение между деталями пейзажа. «К мосту» надосвернуть от железной дороги, могила летчика «у края аллеи». Только «сосны», приравненные «скопищу душ», выпадают из общей системы этой части текста.
Не менее конкретно время этой же части. Мы не знаем, какое это время по часам (хотя легко можем высчитать), но мы знаем, что это определенное время, время с признаком точности. Это время между движением луны из-за кровли амбара до положения над крышами (предполагается, что читатель, конечно, знает, где для этого нужно стоять, - точка зрения зафиксирована интимностью этого единственного мира, который строит автор), между предпоследним и последним поездами до Нары (ближе к предпоследнему; предполагается, что читатель знает, когда уходит этот поезд). В мире пригородов понятия поезда и считаемого времени - синонимы.
Если бы автор сказал, что ушел «последний состав», то значение высказывания могло бы быть и предельно конкретным и метафорически отвлеченным, вплоть до введения семантики безнадежности и бесповоротных утрат. «Предпоследний поезд» может означать только конкретное время.
На фоне такой семантической организации первой половины стихотворения резко значимым делается универсально-пространственный и универсально-временной характер второй части. Действие происходит здесь «в темном чертоге вселенной», действующие лица: «живая людская душа», «невидимый юноша-летчик», «тело», бредущее «по дороге». Здесь нет ни упоминаний о вечности и длительности времени, ни картин космоса или вселенной (упоминание «чертога вселенной» - единственный случай, и встречается он на границе частей, чтобы «включить» читателя в новую систему; далее образов этого типа в тексте нет) - характеристика времени и пространства в этой части текста представлена на уровне выражения значимым нулем. Но именно это, на фоне первой части, придает тексту характер невыразимой всеобщности.
Зато сопоставление резко выделяет признак устремленности вверх двух соположенных миров.
Первая половина стихотворения, вводя нас в мир бытовых предметов, вносит и бытовые масштабы. Только две точки вынесены вверх: луна и сосны. Однако природа их различна. Луна, как мы уже говорили, «привязана» к бытовому пейзажу и включена в «пространство вещей». Иначе охарактеризованы «сосны»: их вышина не указана, но они вынесены вверх - по крайней мере, про них сказано, что они «склоняются». Но еще существеннее другое - сравнение:
…сосны, склоняясь к погосту 3
,
Стоят, словно скопища душ.
Оно выключает их из вещного мира и одновременно из всей связи предметов в этой половине стихотворения.
Вторая половина контрастно переносит нас в мир иных размерностей. «Чертог» вводит образ устремленного вверх здания. Метафора «чертог вселенной» создает дополнительную семантику 4 , грубо ее можно представить как соединение значений построенности, горизонтальной организованности по этажам (семантика «здания») с факультативным признаком сужения, заострения, «башенности» вверху и всеобщности, универсальности, включающей в себя все. Эпитет же «темный» вносит элемент неясности, непонятности этой конструкции, соединяющей в своей всеобщности мысль и вещь, верх и низ.
Все дальнейшие имена иерархически организованы относительно этажей этого здания, и эта иерархия и разгораживает их, и соединяет. «Покой» «встает» (существенна семантика вертикальности и движения в этом глаголе) «над … листвой». «Живая людская душа» по отношению к этому покою получает признак низшей иерархичности - она «смолкает с опущенным взором». Эта характеристика имеет и значение униженности, указывает на связь с миром телесных человеческих форм. Выражение «живая людская душа» может осознаваться как синоним «живого человека» («душа» в этом случае воспринимается не как антоним «тела», а как его метонимия) 5 . Однако в дальнейшем этот застывший фразеологизм включается в ряд противопоставлений: в антитезе «невидимому юноше-летчику» активизируется утратившее в устойчивом словосочетании лексическое значение слово «живая», а в противопоставлении «телу» в последней строфе аналогичным образом активизируется слово «душа».
Слияние человеческого героизма с движущейся природой (существенно, что это деревья - пласт природы, возвышающийся над бытовым миром и всегда у Заболоцкого более одушевленный; ср.: «Читайте, деревья, стихи Гезиода…») создает тот, возвышающийся над миром вещей и могил уровень одушевленности, в котором возможны контакты («о чем-то беседует») между живым человеком, природой и предшествующими поколениями.
Последняя строфа интересно раскрывается в сопоставлении с первой. Сюжетно она возвращает нас к прохожему. Это выделяет метаморфозу образа - единый прохожий, который «исполнен душевной тревоги», в конце распадается на три сущности: душа беседует в листьях деревьев с погибшим юношей-летчиком, «тело бредет по дороге», а «горе его, и тревоги» бегут за ним вслед. При этом все три сущности расположены на трех разных ярусах в иерархии «чертога вселенной», по оси «верх - низ». «Душа» располагается в этой картине на уровне деревьев - среднего пояса одушевленной природы, «тело» совмещено с бытовым миром, а «тревоги», которые бегут вслед, «как собаки», составляют низший уровень телесности, напоминая беснующихся двойников шакалов. Соответственно иерархична система глаголов: «душа» беседует, «тело бредет», «тревоги бегут… вослед».
Кажется, что это противоречит существенной для других текстов схеме, согласно которой чем ниже, тем неподвижнее мир. Но здесь возникает специфичная для данного текста антитеза горизонтальной оси - оси бытового движения, озабоченности качественной неподвижности и оси вертикального движения - одухотворенности, покоя и понимания в ходе внутреннего Превращения.
Соотношение двух частей создает сложное смысловое построение: внутренняя сущность человека познается, отождествляясь с иерархией природных начал.
Однако система других текстовых со-противопоставлений вносит в эту общую схему изменения, накладывая на нее детализирующие противоположные или просто не совпадающие с ней семантические оппозиции. Так, входя в общий пространственный «язык» поэзии Заболоцкого, конкретный мир предстает как низший. Однако в традиции русской поэзии XIX в., с которой стихотворение явственно соотносится, существует, в частности, и другая семантическая структура: конкретное, живое, синтетическое, теплое, интимное противостоит абстрактному как аналитическому, холодному, неживому и далекому. В этой связи соотнесение «прохожего» в первой и последней строфах будет решительно иным. В первой строфе выделится синтетичность, целостность образа. Душевное состояние и внешний облик - такова дифференциальная пара, возникающая от сопоставления двух первых стихов первой строфы, место и время движения активизируются при сопоставлении двух последних. Однако вначале обнажится их слитность, а разъединение, разложение единого на субстанции - в конце. Но в свете той традиционной для русской поэзии классификации, о которой мы говорили выше, ценным и поэтичным будет представляться именно первое.
Насыщая текст деталями, Заболоцкий не сопровождает их оценочными эпитетами. Это имеет глубокий смысл. Приведем такой пример: на заре советской кинематографии один из основоположников теории киномонтажа Л. В. Кулешов сделал опыт, получивший всемирную известность: сняв крупный план равнодушного лица киноактера Мозжухина, он смонтировал его с другим кадром, которым последовательно оказывались тарелка супа, гроб и играющий ребенок. Монтажный эффект - тогда еще неизвестное, а теперь уже хорошо изученное явление - проявился в том, что для зрителей лицо Мозжухина начало меняться, последовательно выражая голод, горе или отцовскую радость. Эмпирически бесспорный факт - неизменность лица - не фиксируется чувствами наблюдателей. Попадая в разные системы связей, один и тот же текст становится не равным самому себе.
Не зафиксировав своего отношения к образу первой строфы, Заболоцкий оставил возможность включать ее и в систему «своего» художественного языка, и в традиционный тип связей. В зависимости от этого ценностная характеристика эпизода будет меняться на прямо противоположную. Но именно это колебание, возможность двойного осмысления отличает текст от системы. Система исключает интимное переживание образа «прохожего» из первой строфы - текст допускает. И весь конкретный мир, в пределах текста, колеблется между оценкой его как низшего и как милого. Показательно, что в двух последних строфах положительный мир одухотворенности получает признаки конкретности: наделение движения и мысли звуковыми характеристиками «легкое шуршание» и «медленный шум» (с явным элементом звукоподражания) воспринимается как внесение вещественного элемента. Одновременно, превращая «прохожего» в «тело», Заболоцкий вносит абстракцию в «низший» мир, активизируя возможность осмысления текста в свете «антисистемы». Эта поэтика двойного осмысления текста объясняет и появление оксюморонных сочетаний или принципиальную неясность сюжета, создающую возможность доосмыслений.
На фоне этих основных семантических организаций функционируют более частные.
Если рассмотреть текст как некоторую последовательность эпизодов, считая эпизодом строфу, то отношение сюжетного сегмента к последующему (кроме последней строфы) и предшествующему (кроме первой) образует цепочку «монтажных эффектов», обследовательность сюжета.
Первая строфа вводит персонаж, именуемый «он». Уточнения в тексте не дано («прохожий» назван лишь в заглавии, и это определение структурно существует как внетекстовое, отнесенное к поэтическому тексту, но в него не входящее). В равной мере не названы и душевные тревоги, которых он исполнен.
Тревоги - такое же неотъемлемое свойство персонажа, как треух и солдатский мешок. Этому персонажу соответствуют конкретное окружение и время, о подчеркнутой вещности которого мы уже говорили. Начиная с третьей строфы происходит перемещение героя в некоторое новое пространство - «весеннюю глушь». Четвертая строфа начинается с введения нового имени, которое на протяжении последующих трех строф вытесняет первого героя (он даже перестает упоминаться). Этот новый персонаж - «летчик», замещая первого героя, во многом от него отличается. Прежде всего, он назван не местоимением. Но существенно и другое: образ летчика отличается от первого героя своей оксюморонной двойственностью. Летчик, зарытый в земле, и «мертвый пропеллер», становящиеся сюжетным центром этих строф, таят в себе два начала: полета и могилы. Оксюморонность построения персонажа развивается дальше системой глаголов. Глаголы, характеризующие «его», - глаголы движения. Пространственное перемещение сочетается с душевным беспокойством. Летчик характеризуется сочетанием движения и неподвижности: над его могилой «встает… покой». Свидание прохожего с летчиком двоится: это «он», проходящий мимо могилы, и свидание «его» души с покоем. При этом покою придан признак начала движения - он «встает», а живой душе - конца его, успокоения, она «смолкает». Вначале «он» был «исполнен душевной тревоги», теперь перед покоем, вставшим над могилой,
Волнуясь и вечно спеша,
Смолкает с опущенным взором
Живая людская душа.
В следующей строфе движение передано юноше-летчику. Это загадочные «легкое шуршание почек» и «медленный шум ветвей». Обе характеристики демонстративно исключены из мира непосредственно-каждодневного опыта: шуршание почек - это звук их распускания («микрозвук»), а шуму ветвей дан эпитет не звука, а движения. В этом «странном» мире происходит свидание двух душ, в то время как вновь появившийся «он», превратившись в «тело», продолжает движение. Но и с «ним» произошли изменения - приниженность его увеличилась: «он» вначале «по шпалам… шагает» - теперь он «бредет». «Железная дорога», «шпалы» превратились в обобщенную дорогу жизни - он идет не по ним, а «сквозь тысячи бед». Он был исполнен душевной тревоги - теперь
…горе его, и тревоги
Бегут, как собаки, вослед.
Рассмотренное таким образом, стихотворение получает дополнительные смыслы: для «него» - это сюжет приобщения к высокому строю жизни, для «летчика» - бессмертия искупительного подвига личной гибели, одухотворяющей окружающий мир.
Но и сказанное не исчерпывает многочисленных сверхзначений, создаваемых структурой поэтического текста. Так, в пятой строфе возникает антитеза сна («сонная листва») и покоя. Не имеющая вне данного контекста почти никакого смысла, она исполнена здесь глубокого значения: сон - это состояние природы, чья неподвижность не одухотворена мыслью, покой - слияние мысли и природы. Не случайно «покой» расположеннад «сном»:
Над сонною этой листвой
Встает тот нежданно мгновенный,
Пронзающий душу покой.
Можно было бы указать на то, что «мгновенный» здесь означает не «очень быстрый», а - в антитезе времени первых двух строф - не имеющий временного признака. Или же другое: третья, пятая и шестая строфы кончаются стихами, содержащими слово «душа» (встречается только в концах строф). Однако каждый раз оно получает новое значение.
Мы не рассматриваем сублексических уровней текста, хотя это существенно обедняет анализ. Из наблюдений над синтаксисом отметим лишь, что разобщенность вещного мира и единство одухотворенного выражаются в антитезе коротких предложений (вторая строфа состоит из трех предложений) и длинных (пятая – шестая составляют одно).
Только поэтическая структура текста позволяет сконцентрировать на сравнительно небольшой площади в тридцать две строки такую сложную и насыщенную семантическую систему. Вместе с тем можно убедиться в практической неисчерпаемости поэтического текста: самое полное описание системы дает лишь приближение, а пересечение различных систем создает не конечное истолкование, а область истолкований, в пределах которых лежат индивидуальные трактовки. Идеал поэтического анализа - не в нахождении некоторого вечного единственно возможного истолкования, а в определении области истинности, сферы возможных интерпретаций данного текста с позиций данного читателя. И «Прохожий» Заболоцкого еще будет раскрываться для новых читателей - носителей новых систем сознания - новыми своими сторонами.
4 Если задать списком все возможные в языке фразеологические сочетания слов «чертог» и «вселенная», то соединимые значения дадут семантику метафоры. Поскольку же правила сочетаемости будут каждый раз определяться семантическим строем данного текста (или вида текстов), а количество возможных фразеологизмов также будет варьироваться в зависимости от ряда причин, возникает необходимая для искусства возможность семантического движения.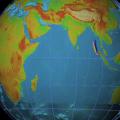 Самые разрушительные цунами современности
Самые разрушительные цунами современности Инопланетянин, родившийся на земле
Инопланетянин, родившийся на земле Основатель франции. Конституция франции. Энергетика и добыча полезных ископаемых
Основатель франции. Конституция франции. Энергетика и добыча полезных ископаемых