Армия московской руси. Организация вооруженных сил россии при царе михаиле федоровиче
Русский царь Петр, шведский король Карл, король Дании Фредерик, польский король Август, король Франции Людовик, Вильгельм Английский, Леопольд Австрийский и большинство других королей и принцев той эпохи рано или поздно всегда выносили свои разногласия на суд войны. В XVII и XVIII столетиях, точно так же, как и в XX, войне отводилась роль международного арбитра в спорах между народами. Соперничество династий, установление границ, право на обладание городами, крепостями, торговыми путями и колониями - все решалось с помощью войны. Как лаконично сформулировал эту аксиому один из молодых придворных Людовика XIV: «Пушки - самые беспристрастные судьи. Их суждения метки, и они - неподкупны».
Численность армий России и Швеции во времена Петра I
На протяжении пятидесяти лет - всю вторую половину XVII века - самой могущественной и вызывавшей наибольшее восхищение в Европе была французская армия. По количеству солдат она намного превосходила любую другую европейскую армию. В мирное время Франция содержала постоянную армию в 150000 человек, а в годы войны численность ее возрастала до 400000. Во время войны за Испанское наследство восемь больших армий под командованием маршалов Франции одновременно вели военные действия в Нидерландах, на Рейне, в Италии и в Испании. Попечением короля и его военного министра Лувуа, французские солдаты были обучены, вооружены и снаряжены лучше всех в Европе. Благодаря таким генералам, как Тюренн, Конде и Ван-дом, им постоянно сопутствовал успех. Сокрушительный удар, который герцог Мальборо нанес маршалу Таллару при Бленхейме (Гохштедте) не без помощи принца Евгения Савойского, сражавшегося на стороне герцога, было первым крупным поражением французских войск, начиная со средних веков*. Это было время, когда численность, огневая мощь и разрушительная сила всех армий стремительно возрастала. По мере того, как энергичные министры финансов увеличивали налоговую основу для содержания армий, становилось возможным выставлять на поле битвы все большее количество войск. В первой половине XVII века в европейских баталиях с обеих сторон могли участвовать не более 25 000 солдат. В 1644 году при Марстон-Муре - решающем сражении гражданской войны в Англии - Кромвель выставил 8 000 человек против равного количества войск Карла I. Шестьдесят пять лет спустя при Мальплаке Мальборо вел 110000 союзных войск против 80 000 французов**.
* Эта битва произошла в Баварии 13 августа 1704 г. Англичане и австрийцы разбили французов и баварцев.
** Битва при Мальплаке (Фландрия) произошла 11 сентября 1709 года. Австрийский полководец принц Евгений Савойский и английский герцог Мальборо разбили французские войска маршала Виллара.
На вершине своей военной мощи Швеция, при собственном населении в полтора миллиона человек, содержала армию в 110 000 солдат. Петр, даже после роспуска дезорганизованного нерегулярного дворянского ополчения, которое он получил в наследство от Софьи и Голицына, в конечном итоге создал и обучил совершенно новую армию численностью 220 000 человек.
Хотя в эпоху непрерывных войн воинская повинность для всех сословий стала необходимым средством пополнения армейских рядов, большинство армий этого периода все же состояло из профессиональных солдат Многие из них - и офицеры и рядовые - были иностранными наемниками: в то время солдат по собственному усмотрению мог вступить в любую армию и воевать против кого угодно, кроме своего короля. Зачастую короли и принцы, придерживавшиеся нейтралитета, поставляли целые полки наемников для воюющих соседей. Так, во французской армии были швейцарские, шотландские и ирландские полки, в голландской армии - датские и прусские, а в армии империи Габсбургов служили представители всех германских государств. Некоторые офицеры переходили из одной армии в другую с такой же легкостью, с какой современные клерки меняют место работы, но ни те, у кого они служили раньше, ни их будущие наниматели, не видели в этом ничего предосудительного. Мальборо, будучи двадцатичетырехлетним полковником, служил у маршала Тюренна, выступал против голландцев и на большом параде удостоился похвалы самого Людовика XIV. Впоследствии, командуя армией, состоявшей в основном из голландцев, Мальборо чуть было не скинул с трона Короля-Солнце. Некоторое время - до и после вступления Петра на трон - старшие офицеры русской армии почти сплошь были иностранцы; и если бы не они, царь выводил бы на поде боя не войска, а толпу мужиков. Обычно профессиональные солдаты вели военные действия согласно общепринятым правилам. Так, почти без исключений соблюдался сезонный ритм: лето и осень отводились для военных кампаний и сражений, зима и весна - для отдыха, вербовки и пополнения всяческих запасов. В основном эти правила диктовались погодой, Урожаем на полях и состоянием дорог. Каждый год армии Ждали, пока стает снег и зазеленеют луга, чтобы было Достаточно свежей зеленой травы для кавалерийских и обозных коней. В мае и июне, едва подсыхала дорожная грязь, длинные колонны людей и обозов приходили в движение. Проводить маневры, осаждать крепости и ввязываться в сражения генералы имели возможность до октября. К ноябрю, с первыми морозами, войска начинали переходить на зимние квартиры. Эти почти ритуальные правила неукоснительно соблюдались в Западной Европе. Десять лет подряд, пока длилась кампания на континенте во время войны за Испанское наследство, Мальборо ежегодно оставлял армию в ноябре и до весны возвращался в Лондон. В те же самые месяцы старшие французские офицеры возвращались в Париж или Версаль. Давно исчезнувшим атрибутом тех цивилизованных войн были паспорта-пропуски, выдаваемые заслуженным офицерам для проезда по территории неприятеля кратчайшим путем к месту зимнего отпуска. Рядовые, разумеется, подобными привилегиями не пользовались. Для них вопрос о побывке дома до конца войны вообще не стоял. Если им везло, они в течение самых холодных месяцев располагались на постой в городах. Однако гораздо чаще они оказывались в переполненных ветхих казармах и бараках зимних лагерей, где становились добычей стужи. болезней и голода. По весне свежие пополнения рекрут г восстанавливали потери в рядах.
В то время армии на марше двигались медленно, даже когда их продвижение не встречало препятствий. Немногие армии могли пройти в день более десяти миль, обычный же дневной переход составлял пять. Исторический бросок Мальборо от Нидерландов вверх по Рейну в Баварию перед сражением при Бленхейме в то время сочли «молниеносным» - 250 миль было пройдено за пять недель. Обычно движение замедляла артиллерия. Лошади, с трудом тянущие тяжеленные, громоздкие пушки, колеса которых оставляли на дорогах устрашающие рытвины, просто не могли двигаться быстрее.
Армии продвигались длинными колоннами, батальон за батальоном; впереди и по флангам кавалерийский заслон, в хвосте подводы, фуры и зарядные ящики для пушек. Обычно армия пускалась в путь с восходом солнца и становилась на бивуак под вечер. Ежедневная разбивка лагеря на ночь требовала почти столько же усилий сколько и дневной переход. Нужно было поставить рядами палатки, распаковать поклажу, развести костры для приготовления пищи, наносить воды для людей и животных и отвести лошадей пастись. Если неприятель был неподалеку, место для лагеря приходилось подыскивать особенно тщательно и затем еще сооружать временные земляные укрепления с деревянным частоколом - на случай возможного нападения. А наутро, чуть свет, не успевших отдохнуть людей уже поднимали, и в предрассветном сумраке приходилось сворачивать лагерь и снова грузить все на подводы для следующего дневного перехода.
Разумеется не все, даже самое необходимое, можно было увезти в обозе. Армия численностью от пятидесяти до ста тысяч человек могла содержать, себя, лишь двигаясь по плодородной местности и за счет этого удовлетворяя многие из своих нужд или получая дополнительные припасы водным путем. В Западной Европе большие реки служили главными дорогами войны. В России реки текут на север и на юг, а военные действия русских и шведских войск развивались в направлении восток-запад, поэтому водные пути имели меньшее значение и зависимость армий от вещевых обозов и местного фуражирования была сильнее. В Западной Европе военные кампании велись, как правило, неспешно. Были популярны осады - их явно предпочитали значительно большему риску и неприятным сюрпризам, которые сулило сражение в открытом поле. Осадные операции проводились с ювелирной, почти математической точностью; в любую минуту командующий и одной и другой стороны мог ответить на вопрос, как обстоят дела на данный момент и как они будут развиваться дальше. Людовик XIV был горячим приверженцем осадных операций: тут не было опасности потерять большую армию, созданную ценой немалых усилий и огромных затрат. К тому же они позволяли и ему самому поучаствовать в Марсовых забавах без риска для жизни. И наконец, в распоряжении Короля- Солнце был крупнейший в истории военного дела мастер фортификации и осадного искусства
Себастьен де Вобан. Служа своему государю, он успешно провел осаду пятидесяти городов и везде добивался успеха, а построенные им укрепления считались образцовыми на протяжении всего столетия. Вдоль всей границы Франции выросла густая сеть крепостей - от отдельных сугубо военных фортов до больших укрепленных городов. Все эти крепости, идеально приспособленные к особенностям местности, не только великолепно соответствовали своему назначению, но были подлинными произведениями искусства. Обычная их форма - гигантская звезда, при этом каждая стена располагалась так, что была защищена от продольного (анфиладного) артиллерийского или, по меньшей мере, мушкетного флангового огня. Каждый угол звезды представлял собой самостоятельный форт с собственной артиллерией, гарнизоном, тайными ходами для неожиданных вылазок. Могучие каменные стены были окружены рвами в двадцать футов глубиной и сорок футов шириной, также выложенными камнем, перед которыми наступавшая пехота чувствовала себя очень неуютно. Когда строились эти крепости, французские армии вели наступательные действия, и эти исполненные грозного величия сооружения с массивными, украшенными золочеными королевскими лилиями воротами, предназначались не для пассивной обороны, а для того, чтобы служить опорными пунктами французских полевых армий. Впоследствии, когда войска Мальборо рвались к Парижу и Версалю, укрепления Вобана сохранили Людовику его трон. Сам Король-Солнце отдавал должное своему маршалу: «Город, обороняемый Вобаном, неприступен; город, осаждаемый Вобаном, уже взят»*.
* Однако когда Людовик XIV сам присутствовал при осаде, Вобану приходилось делить лавры с королем. Как выразился Людовик: «Месье Вобан предложил мне ряд действий, которые я счел наилучшими».
Тактика ведения войны в 17 веке
Осадные операции под руководством Вобана были подобны безукоризненно поставленным и разыгранным по часам театральным представлениям. Окружив крепость неприятеля, войска Вобана начинали рыть серию зигзагообразных траншей, постепенно подбираясь к стенам. Вобан с математической точностью рассчитывал углы обстрела и располагал окопы таким образом, чтобы огонь со стен крепости практически не наносил урона пехоте, которая подкапывалась все ближе и ближе. Тем временем, артиллерия осаждающих день и ночь вела огонь по укреплениям, заставляя умолкнуть пушки защитников и пробивая бреши в стенах. В момент штурма пехотинцы устремлялись из окопов и, засыпая рвы фашинами - тугими вязанками хвороста, - преодолевали их и врывались в проломы в изрешеченных стенах. Однако осады нечасто достигали этого кульминационного момента. Когда становилось очевидным, что крепость обречена, осажденные, в соответствии со строгим этикетом, которого придерживались обе стороны, были вольны согласиться на почетную капитуляцию, причем не только неприятель, но и их собственное правительство ничего другого в этой ситуации от них и не ждали. Но если нерасчетливые или чересчур пылкие защитники отказывались сдаться, тем самым вынуждая нападавших идти на приступ, теряя время и людей, захваченный город подвергался насилию и разграблению и предавался огню.
Искусство Вобана навсегда осталось непревзойденным. Однако в те времена (как, впрочем, и сейчас) крупнейшие полководцы - Мальборо, Карл XII, принц Евгений - предпочитали вести маневренную войну. Величайшим из них, несомненно, был Джон Черчилль, герцог Мальборо, который с 1701 по 1711 год командовал коалиционными европейскими армиями в войнах против Людовика XIV. Не было сражения, которое бы он проиграл, и не было крепости, которая бы перед ним устояла. За десять лет войны, сражаясь с одним за другим маршалами Франции, он победил их всех, и когда в результате политических изменений в Англии лишился командования, его войска неудержимо двигались сквозь барьер мощных укреплений Вобана прямо на Версаль. Мальборо не довольствовался обычной, ограниченной стратегией того времени, и устремления его простирались много дальше покорения отдельной крепости или города. Он был убежденным сторонником решительных, крупномасштабных действий, хотя бы и сопряженных с большим риском. Его целью было уничтожить французскую армию и посрамить Короля-Солнце на поле боя. Он был готов рискнуть, поставив судьбу провинции, кампании, войны и даже королевства в зависимость от исхода одного дня. Мальборо был наиболее удачливым и разносторонним начальником своего времени. Он был одновременно полевым командиром, главнокомандующим коалиционными войсками, министром иностранных дел и фактическим премьер-министром Англии это примерно то же самое, как если бы он один исполнял обязанности Черчилля, Идена, Эйзенхауэра и Монтгомери во время второй мировой войны.
Но стиль командования Мальборо всегда отличался определенной взвешенностью, умением соразмерить масштабную стратегию и тактические задачи. Самым же напористым и дерзким полководцем того времени был король Швеции - Карл XII. В глазах своих противников, да и всей Европы, Карл был воином, рвавшимся в бой в любой момент, независимо от соотношения сил. Тактике его были присущи стремительность и внезапность. Его импульсивность и жажда боя навлекли на него обвинение в безрассудстве, граничащим с фанатизмом. И, пожалуй, он охотно подписался бы под девизом Джорджа С. Паттона: «Атаковать, только атаковать!»*
* Паттон, Джордж Смит (1885-1945), американский генерал, участник первой и второй мировых войн, освободитель Франции в 1944 г.
Но в основе атак шведских войск лежала не слепая ярость, а жесткая муштра, железная дисциплина, всеобщая преданность делу, уверенность в победе и превосходная система оперативного управления войсками. Барабаны подавали сигналы, посыльные разносили приказы и командиры подразделений всегда знали, что от них требуется. Любая слабость в собственной армии быстро искоренялась, любая слабость в войсках неприятеля немедленно использовалась. Карл охотно нарушил бы традицию сезонного ведения боевых действий; твердый промерзший грунт лучше выдерживал тяжесть подвод и орудий, да и его солдаты привыкли к морозной погоде - словом, он был готов воевать и зимой. Очевидно, что в маневренной войне преимущество имеет та армия, которая обладает большей мобильностью. Судьба кампании зависела от транспорта и работы тыла в той же степени, что и от генеральных сражений. Все, что могло увеличить мобильность, имело значение; французы, например, были в полном восторге от появления передвижных пекарен, благодаря которым открылась возможность получать свежий хлеб в считанные часы.
Когда армия неприятеля находилась неподалеку, командиры, конечно, были настороже, хотя в XVII и XVIII столетиях сражения редко происходили, если этого не желали обе стороны. Отыскать подходящий плацдарм и произвести необходимое построение людей, лошадей и орудий было совсем непросто. И военачальник, не расположенный вступать в бой, мог легко от него уклониться, укрыв свои силы среди холмов, кустов и оврагов. На то, чтобы привести войска в боевой порядок, уходили часы, и стоило только одному генералу начать построение, как другой, если он не стремился к баталии, мог спокойно отступить. Таким образом, две враждующие армии могли целыми днями находиться в относительной близости, избегая серьезного столкновения.
Когда же оба командира были вынуждены сражаться - например, за контроль над речной переправой или за опорный пункт на главной дороге, - армии занимали позиции в 300-600 ярдах друг от друга. Если позволяло время, та армия, которая намеревалась защищаться (скажем, русские против Карла XII или французы против Мальборо), воздвигала перед линией пехоты надолбы из вбитых в землю заостренных кольев (chevaux de frise), которые в какой-то степени сдерживали атаки наступающей кавалерии. По линии фронта артиллерийские офицеры устанавливали орудия, стрелявшие ядрами весом 3, 6 и 8 фунтов, а тяжелые пушки даже ядрами в 16 и 24 фунта, на 450-600 ярдов вглубь вражеских рядов. Сражение обычно начиналось с артиллерийского обстрела. Град пушечных ядер мог нанести урон, но редко имел решающее значение в бою против опытных и дисциплинированных войск. С поразительной выдержкой солдаты стояли в строю, тогда как в воздухе со свистом проносились ядра и, отскакивая рикошетом от земли, пробивали в их рядах кровавые бреши. В XVII веке полевая артиллерия была значительно усовершенствована шведами. Густав Адольф стандартизировал калибры полевых орудий, и в разгар боя одни и те же боеприпасы могли подходить к любому орудию. Впоследствии, когда внимание к артиллерий стало превращаться в самоцель, шведские генералы сообразили, что артиллеристы нередко забывают о необходимости поддерживать собственную пехоту. Чтобы устранить этот недостаток, каждому пехотному батальону придали по две легких пушки, которые оказывали поддержку солдатам, стреляя прямой наводкой по атакующей этот батальон неприятельской пехоте. Позднее шведы придали артиллерию даже кавалерийским подразделениям.
Конная артиллерия была чрезвычайно мобильна - распрячь лошадей, открыть огонь по кавалерии противника и отойти на новую позицию она могла в считанные минуты. Но исход сражения решала не артиллерия и не кавалерия, а пехота. Великие битвы того времени выигрывали пехотные батальоны, построенные фалангами, вооруженные мушкетами, кремневыми ружьями и пиками, а впоследствии багинетами. XVII век принес быстрые перемены в снаряжение и тактику пехоты. Веками старинная пика - тяжелое древко длиной от четырнадцати до шестнадцати футов со стальным острием - была всепобеждающей «королевой сражений». С длинными пиками наперевес ряды пикинеров наступали друг на друга, и исход боя определялся напором ощетинившегося копьями строя. С развитием огнестрельного оружия, прославленная пика стала устаревать. Пика не могла соперничать с мушкетом: мушкетеры вели огонь с безопасного расстояния, выбивая пикинеров из строя. К концу века пикинеры на полях сражений появлялись редко, и их единственным назначением стала защита мушкетеров от кавалерии противника. Всаднику по-прежнему требовалось немалое мужество, чтобы мчаться навстречу барьеру из длинных отточенных пик, но пока атакующий противник не приближался к пикинерам вплотную, от них не было никакой пользы. ОРИ бестолково стояли в строю, косимые огнем артиллерийских батарей и мушкетными пулями, выставив длинные пики и ожидая, когда кто-нибудь сам насадит себя на острие.
Вооружение солдат времён Петра I
Выручил багинет, или штык, с помощью которого мушкет объединил в себе две функции: во- первых, из него по-прежнему можно было стрелять, а во вторых, к стволу крепилось острие, и стоило неприятелю приблизиться, как мушкет превращался в короткую пику. Сначала острие вставляли прямо в мушкетный ствол. Но это мешало вести огонь, и скоро был введен багинет, крепившийся на кольце - в таком виде он продолжал применяться и в нашем столетии. Пехотинец мог вести огонь до сближения с противником, а затем пустить в ход сверкающий штык. Багинет, то есть мушкет с при-мкнутым штыком, появился как раз вначале Северной войны. Драбанты - шведская гвардия - были вооружены багинетами в 1700 году, и за несколько последующих лет их приняло на вооружение большинство армий, включая и русскую.
В конце XVII века был значительно усовершенствован и сам мушкет. Старинное фитильное ружье было громоздким и весило более пятнадцати фунтов*.
* То есть 6 кг.
Для того, чтобы наводить и удерживать его, мушкетеру был необходим длинный деревянный подсошник с развилкой наверху: его втыкали в землю и, оперев ствол на развилку, целились и стреляли. Чтобы зарядить ружье и произвести всего один выстрел, требовалось выполнить двадцать два отдельных приема, в том числе: засыпать порох, забить пыж и пулю, вставить запал, поднять на плечо, навести с подсошника в цель, зажечь фитиль и поднести его к запальному отверстию. Иногда отсыревший фитиль никак не хотел воспламеняться, и мушкетер, ожидавший, когда же раздастся выстрел, нередки бывал разочарован - если разочарование то чувство, какое испытываешь при виде бегущего прямо на тебя пехотинца или скачущего во весь опор кавалериста.
На смену фитильному замку пришел кремневый, в котором искра высекалась механически, от удара стального кресала по кусочку кремня, и падала прямо в пороховую камеру. Оружие стало полегче, правда, только относительно - теперь оно весило десять фунтов, что позволяло обходиться без подсошника, а количество приемов, необходимых для выстрела, сократилось вдвое. Хороший стрелок мог произвести несколько выстрелов в минуту. Кремневый мушкет вскоре стал стандартным вооружением пехоты во всех западных армиях. Только русские и турки продолжали изготавливать неуклюжие фитильные пищали старого образца, что явно не способствовало усилению огневой мощи их пехоты.
Пехота, оснащенная новым оружием - кремневым мушкетом с примкнутым штыком - стала высокоэффективной, грозной, а очень скоро и ведущей силой на полях сражений. Багинет не просто соединил в себе два вида оружия - возникло новое оружие, не такое неуклюжее, как пика, и мобильность пехоты с его появлением значительно возросла. Увеличение скорострельности потребовало разработки новых тактических приемов и боевого порядка, чтобы максимально использовать возросшую огневую мощь. Кавалерия, которая веками господствовала на поле боя, теперь отступила на второй план. Мальборо первый сумел оценить и использовать новые преимущества пехоты. Английских солдат учили быстро разворачиваться из колонн в шеренги и, взвод за взводом, вести непрерывный, методичный огонь. Поскольку теперь меньшим числом людей можно было добиться той же интенсивности огня, личный состав батальонов сократился и ими стало легче управлять. Командование и контроль за выполнением приказов упростились и ускорились. Для того, чтобы иметь возможность одновременно навести на неприятеля как можно больше стволов, равно как и для того, чтобы уменьшить глубину мишени для вражеской артиллерии, пехота стала растягиваться по флангам, что, в свою очередь, расширяло саму линию фронта. Все действия солдата должны были быть доведены до безошибочного автоматизма, и с этой целью в мирное время проводились бесконечные учения. А испытание наступало в тот леденящий сердце момент, когда на мушкетеров накатывалась волна вражеских всадников с поднятыми клинками и времени перезарядить мушкеты уже не было.
Именно благодаря существенно возросшей огневой мощи пехоты, к началу XVIII века поле боя стало более опасным местом, чем когда-либо прежде. Уничтожать людей смертоносными мушкетными залпами было куда проще, чем сходиться вплотную и сражаться врукопашную - как это приходилось делать на протяжении веков. Раньше нормальными потерями считались десять процентов личного состава, теперь эта цифра резко подскочила. Несмотря на то, что пехота стала господствовать на поле сражения, ее собственная безопасность зависела от соблюдения идеального порядка. Если пехотинцы удерживали строй и не давали его прорвать, они своим опустошительным огнем могли нанести огромный урон атакующей кавалерии. Да и сама жизнь пехотинцев зависела от сохранения строя: вокруг вихрем кружила неприятельская кавалерия, готовая при малейшем ослаблении боевых порядков смять ряды и втоптать пехоту в пыль.
Организация боя - поддержание боевого порядка в многотысячном войске, прибытие необходимых формирований в нужное время и в нужное место, и все это под вражеским огнем - сама по себе сложнейшая задача. Природа тоже частенько устраивала полководцам какой-нибудь подвох - трудно было не наткнуться на перелесок, канаву, а то и просто изгородь, которые мешали движению колонн и могли сломать построение. Но как бы ни складывалась обстановка, спешить было нельзя. Продвигаться в зону смертоносного огня неприятеля приходилось медленно, но верно; поспешность могла нарушить скоординированность действий армии. Нередко, даже когда солдаты падали один за одним, приходилось останавливать наступавшую колонну, чтобы восстановить нарушенный строй или дать возможность параллельной колонне с ней поравняться.
За редкими исключениями, удача сопутствовала полководцам, предпочитавшим наступление. Мальборо неизменно начинал сражение атакой, направленной на самый сильный участок боевых порядков противника. Как правило, он использовал для этой цели собственную, великолепно обученную английскую пехоту. Встревоженный неприятельский командир начинал стягивать на атакуемый участок все новые резервы, но Мальборо не снижал и даже усиливал натиск, не считаясь с потерями. Наконец, когда другие участки вражеской обороны оказывались сильно ослабленными, Мальборо бросал в бой свои резервы, направляя лавину кавалерии на какой-нибудь особенно оголенный отрезок неприятельского фронта. И вот, в который раз оборона противника прорвана, и герцог с триумфом проезжает по полю боя.
Однако, если на первое место ставить стремительность и напор атаки, то лучшими пехотинцами и кавалеристами в Европе были не англичане, а шведы. Шведские солдаты вообще не были приучены думать ни о чем, кроме наступления. Если противник каким-то образом перехватывал инициативу и сам начинал наступать, шведы немедленно устремлялись ему навстречу, чтобы сорвать наступление контратакой. В отличие от английской армии Мальборо, пехотная тактика которой была основана на максимальном использовании огневой мощи, шведы в атаке полагались на armes blanches - холодное оружие. Как пехота, так и кавалерия огню мушкетов и пистолетов предпочитали ближний бой, в котором все решали клинок и штык.
Зрелище было устрашающее. Медленно, методично, молча, под грохот барабанов продвигалась вперед шведская пехота, не открывая огонь до последней минуты. Сблизившись с противником, колонны разворачивались, и на поле боя вырастала стена желто-голубых мундиров в четыре шеренги глубиной. Строй замирал, грохотал залп, и со штыками наперевес шведы врывались в дрогнувшие ряды неприятеля. Прошло немало лет, прежде чем русские воины Петра научились отражать неудержимо атакующих шведов. Непревзойденная мощь шведской атаки была обусловлена религиозным фатализмом, с одной стороны, и непрерывной муштрой, с другой. Все - от короля до солдата - верили в то, что «Господь никому не позволит пасть в бою, покуда не придет его час». Эта убежденность порождала неколебимое мужество, а месяцы и годы, проведенные на плацу под звуки строевых команд, обеспечивали шведской армии такую маневренность и сплоченность, что сравниться с ней не мог никто,
Роль пехоты и кавалерии в войне со Швецией
Несмотря на возросшую роль пехоты в качестве решающего рода войск, действия кавалерии по-прежнему наполняли драматизмом картину боя: стоило противнику дрогнуть, кавалерия прорывала его ряды и добывала победу. Легкая кавалерия служила для прикрытия армии, разведки, фуражировки и внезапных набегов на неприятеля. Русские для этих целей использовали казаков, а турки - татар. У шведов одни и те же кавалерийские части участвовали и в боях и во вспомогательных операциях. Тяжелая регулярная кавалерия была организована в эскадроны численностью в 150 человек: кавалеристы носили кирасы, прикрывавшие спину и грудь, и были вооружены палашами и пистолетами, которые пускались в ход, если эскадрон попадал в засаду. В большинстве армий того времени кавалерию обучали тактическим маневрам не менее тщательно и строго, чем пехоту. Но существовали факторы, ограничивающие возможности ее применения. Одним из них, безусловно, являлся ландшафт: для действий кавалерии необходимы мягкий рельеф и открытое пространство. Другим фактором была выносливость лошади: даже самые лучшие кавалерийские кони не могли выдержать больше пяти часов напряженной схватки. Был и еще один фактор - усиление пехотного огня. Кавалерии приходилось держаться начеку, учитывая возросшую меткость и скорострельность кремневых мушкетов. И Мальборо, и Карл XII посылали кавалерию в бой только в решающий момент, когда она, как ударная сила, могла прорвать распадающиеся вражеские ряды, атаковать с флангов наступающую пехоту или, преследуя противника, превратить его отступление в разгром.
Хотя возможности применения кавалерии и были ограничены, время ее славы еще далеко не миновало. До битвы при Ватерлоо, с ее массированными кавалерийскими атаками, оставалось целое столетие, а до атаки английской легкой бригады под Балаклавой - полтораста лет*. Кавалеристы составляли от четверти до трети численности всех армий, а в шведской армии их процент был еще выше. Карл обучал свою кавалерию идти в атаку сомкнутым строем. Шведские конники надвигались на неприятеля медленной рысью, построившись плотным клином. Клин имел глубину в три шеренги и прорывал ряды кавалерии или пехоты противника подобно широченной стреле, послушной воле командира.
* Сражение под Балаклавой произошло 13 октября 1854 года во время Восточной (Крымской) войны 18531856 гг. Примечательно эффектной атакой бригады английской легкой кавалерии лорда Кардигана, которая привела к поражению русских гусар. В свою очередь, англичане не выдержали удара русских и потеряли почти половину своих солдат и офицеров, большая часть которых принадлежала к английской аристократии.
Если наблюдать кавалерийскую атаку издали, война могла бы показаться великолепным зрелищем: по открытому полю мчатся всадники в разноцветных мундирах, клинки и кирасы сверкают на солнце, вымпелы и флаги реют на ветру. Но для участников битвы это поле - место кровавой резни, подобие ада: пушки грохочут и извергают пламя, пехотинцы по команде заряжают ружья и стреляют, изо всех сил пытаясь удержать строй, а возле их ног корчатся в агонии изувеченные товарищи; верховые на полном скаку обрушиваются на линию пехоты: крики, вопли, стоны; кто-то пытается подняться и падает, всадники в исступлении полосуют отточенными клинками всякого, кто попадется под руку; пешие почти вслепую яростно колют штыками - кому-то достался удар в спину, кому-то в грудь; мгновенная острая боль, последняя вспышка удивления, осознание того, что случилось, и хлынувший из раны поток алой крови; бегут люди, мечутся кони, потерявшие всадников, и надо всем этим медленно ползут тяжелые облака слепящего, удушающего дыма. А когда смолкала канонада и рассеивался дым, взору открывалось пропитанное кровью поле, слышались стоны и крики раненых. Тут же лежали те, кто утих навеки, устремив в небо невидящие глаза. Таким образом разрешались противоречия между народами.
Организация вооруженных сил России начала XVII в.
Как и во второй половине XVI в., в начале XVII в. основу русского войска составляли два вида вооруженных формирований: ополчение и постоянное войско. Ополчение делилось на дворянскую поместную конницу и крестьянскую посошную рать. Они собирались в случае войны, являясь к месту службы со своим оружием и снаряжением. "Посоха" поставляла людей в пехоту и во вспомогательные формирования (строительство укреплений, обслуживание осадных орудий, артиллерии и т.п.). Ко второму десятилетию XVII в. выявились слабые стороны ополчений: низкая мобилизационная способность, отсутствие единого образца вооружений и единых методов ведения войны в условиях жесткой организации и дисциплины европейских войск. Ополчения входили в ведение Разрядного приказа.
Во время войн к боевым действиям привлекались формирования ополченческого характера вассалов/союзников московского престола: конные отряды татар, башкир, мордвы, чувашей, калмыков, черкесов, вольных казаков (донских, терских и яицких), казаков-беженцев из Малороссии и т.д.
К постоянному войску относились стрельцы, городовые казаки и артиллерия (пушкари и затинщики). Они несли постоянную потомственную службу. Городовые казаки входили в ведение Казачьего приказа, артиллеристы - Пушкарского.
Стрельцы имели определенный военный строй, где боевой единицей являлся "приказ" (500 человек), и носили особую военную форму. В войнах со Швецией и Польшей в начале XVII в. стрельцы показали высокий уровень боевой подготовки. Они успешно применяли линейную тактику боя, позволявшую вести огонь из максимального числа мушкетов. В Западной Европе линейная тактика была применена десятилетием позднее шведским войском во время Тридцатилетней войны. В ходе боевых действий стрельцы и артиллерия, главной задачей которых было усиление огневой мощи полка в целом, постоянно взаимодействовали с ополчением, оснащенным в основном холодным оружием. Это характеризует тактику русских войск, сопоставимую с тактикой "дореформенных" европейских армий XVI в. Стрельцы управлялись Стрелецким приказом.
Организация вооруженных сил России при царе Михаиле Федоровиче
В России начала 1620-х гг. после неудачного окончания войн со Швецией (1613-1617 гг.) и Польшей (1605-1618 гг.) правительство царя Михаила I Федоровича отчетливо понимало необходимость совершенствования военной организации.
Попытка выступить против Польши в начале 1620-х гг. совместно с Турцией и Швецией не состоялась не только из-за турецко-польского (1621 г.) и польско-шведского (1622 г.) перемирия - у российских ополченческих формирований были низкие мобилизационные возможности. С 1622 г. в России начали проводиться переписи ("большой сыск") различных категорий населения, которые привлекались к военной службе. На 1630 г. Россия располагала 92 555 воинами. Из них около 20 000 были в состоянии находиться в полевой армии, а 72 500 человек нести только гарнизонную службу. Требовались военные реформы.
русская армия вооруженный царь
Попытки перейти на европейские новшества в области военной организации предпринимались в России начала XVII в. не раз. Летом 1609 г. по распоряжению князя Михаила Скопина-Шуйского шведский кондотьер Христиан Сомме обучал полевым упражнениям по образцам Морица Оранского 18-тысячное русское войско, сформированное из ополченцев с Русского Севера. Они учились действовать в едином строю, пользоваться мушкетами и пиками, быстро возводить полевые укрепления. Эта армия, взаимодействуя с разноплеменными наемными частями шведского отряда Якоба Делагарди, смогла разгромить "тушинские" войска и деблокировать Москву. В дальнейшем это войско не сохранилось как отдельное формирование и полученные навыки не были развиты.
В 1607 г. по поручению царя Василия IV Шуйского подьячим Онисимом Михайловым был составлен "Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся воинской науки", включавший 663 статьи. В 1621 г. этот устав был развит и дополнен, но так и не был издан.
С 1630 г. в Швеции происходит вербовка для России 5000 пехотинцев, нанимаются военные специалисты, закупается 10 000 мушкетов и 5000 шпаг. В том же году шведский король Густав II Адольф направил в Москву голландского пушечного мастера Юлиса Коета с другими специалистами, знавшими способы отливки легких полевых орудий. Другой посланец шведского короля, Андреас Винниус, начал строить тульские и каширские оружейные заводы. Были приглашены английские, голландские и немецкие инженеры-фортификаторы. Главным организатором подготовки русской армии к войне с Польшей стал шотландский кондотьер на шведской службе Александр Лесли. Вербовка специалистов-католиков была запрещена. Все иностранцы на русской службе управлялись специальным Иноземным приказом.
В 1630-1632 гг. были сформированы шесть солдатских полков (9000 человек), куда привлекали иностранцев, мелкопоместных дворян (детей боярских), татар, казаков и другие категории свободного населения ("вольных охочих людей"). Состав каждого солдатского полка был установлен в 1600 рядовых и 176 начальных людей. Полки делились на восемь рот во главе с полковником, подполковником, майором и пятью капитанами. В каждой роте было по 120 мушкетеров и по 80 пикинеров. Солдатские полки носили имена своих командиров, у них были свои знамена, барабаны и пушки.
К лету 1632 г. был сформирован рейтарский полк - 2000 всадников. В его состав вскоре включили драгунскую роту - 400 всадников. Личный состав набирался из мелкопоместных дворян. Рейтарский полк состоял из 14 рот во главе с ротмистрами. Затем драгунскую роту развили в драгунский полк - 1600 человек. Полк делился на 12 рот, по 120 рядовых в роте. Вооружение состояло из мушкета и пики, иногда бердышей. Драгунский полк имел свою артиллерию в составе 12 малых пушек. К началу Смоленской войны 1632 - 1634 гг. было сформировано 10 полков нового строя общей численностью до 17 000 человек.
После неудачного для России завершения Смоленской войны большую часть европейцев отпустили со службы, многих выслали. Правительство стало запрещать въезд в страну иностранных наемников. Принимать их на русскую службу разрешалось только в виде исключения. В то же время в России сохранялось довольно большое число европейских солдат и офицеров. Так, в 1639 г. среди офицеров, служивших на южной границе, числилось 316 европейцев и 428 русских.
Появление в 1630-х гг. в русской армии полков европейского образца привело к тому, что весь XVII в. в ней параллельно существовали два уклада: актуальный для своего времени европейский и русский, сложившийся в XVI в. Данная система была характерна в то время для Польши, Австрии, Турции и некоторых других государств.
Накануне и во время Смоленской войны южные границы России подверглись интенсивным набегам войск Крымского ханства, которые были усилены турецкими отрядами. В связи с этим с 1636 г. развернулось строительство пограничных укреплений, куда были переведены полки русской армии европейского образца. К осени 1638 г. на южной границе было собрано 5055 драгун и 8658 солдат. Однако военная служба здесь была "сезонной", так как опасность существовала с апреля по ноябрь. Набеги крымских и ногайских отрядов на южные границы России в течение всего XVII в. повторялись ежегодно, и отражение их являлось постоянной практикой русских войск.
В 1642 г. в драгуны переписали крестьян ряда сел и деревень в Воронежском, Лебедянском, Севском и других южных уездов. Для обучения крестьян были присланы инструкторы и оружие (драгунские карабины и шпаги). По своему материальному положению и роду службы эти драгуны являлись военными поселенцами с тем важнейшим отличием от позднейших поселенных войск, что не ратные люди были посажены на землю и превращены в земледельцев, а, наоборот, земледельцы стали ратными людьми. Для сторожевой пограничной службы поселенные драгуны, заинтересованные в охране и обороне своих родных мест, представляли гораздо более надежную вооруженную силу, чем собранные из разных городов и временно присылаемые в южные города "охочие люди".
Солдатские полки были также расположены на границах. На западных рубежах в 1649 г. в солдаты зачислили крестьян Заонежского и Лопьского погостов (7902 человека), а также крестьян Старорусского уезда (1000 человек). В южных пограничных городах солдаты комплектовались из семей служилых людей. Наборы в солдатскую службу в северо-западных и южных городах были местным мероприятием, связанным прежде всего с обороной границ, хотя в период войны солдаты из этих городов посылались на театр военных действий. Вооружение солдат состояло из мушкетов, шпаг, пик, бердышей. В полках имелось по нескольку гренадеров для метания ручных гранат.
Рейтары (2000 человек) набирались исключительно из дворян и детей боярских - это была дворянская конница европейского образца. Вооружение состояло из карабина, пары пистолетов, шпаг или сабель. Защитным вооружением являлись легкие латы и каска. За службу рейтары получали жалованье деньгами и землей. С 1649 г. они управлялись Рейтарским приказом.
В целом организация и управление Вооруженными силами в России представляли собой сложную систему, которая требовала дальнейшей рационализации.
Вступивший на престол в 1645 г. царь Алексей Михайлович принял страну в намного лучшем виде, чем его отец. После Смуты прошло три десятка лет и стартовые возможности нового монарха, в т.ч. и в военной сфере, превосходили более чем скромные возможности Михаила Федоровича. Усилиями отца и деда Алексея было создано ядро новой армии, накоплен ценнейший опыт преобразования вооруженных сил. Все это было кстати, ибо, по словам придворного врача Алексея Михайловича С. Коллинса, в отличие от своего отца будущий «Тишайший» имел «дух воинственный». Все это создавало благоприятные условия для повторения попытки войти в общество «политичных народов». Стремление же играть более значительную роль в европейском политическом «концерте» не могло не навести Алексея Михайловича и его советников на необходимость серьезных преобразований в военной сфере. Прежний опыт отношений с Европой показывал, что только имея мощную армию, можно было добиться признания себя равноправным партнером в отношениях с соседями, и особенно с Западом, который к этому времени рассматривал Московию скорее не как субъект международных отношений, а как объект.
Это становится заметным при анализе сложившейся после завершения Тридцатилетней войны Вестфальской системы международных отношений. Длившееся на протяжении более чем столетия доминирование династии Габсбургов в Европе подошло к концу, и Франция постаралась сделать все возможное, чтобы призрак империи Карла V больше не возродился. Усилия французской дипломатии были направлены на создание антигабсбургского барьера, ключевым звеном которого должна была стать Швеция, ставшая региональной сверхдержавой. Поддержание этого статуса требовало от Стокгольма серьезных усилий, которые становились возможными при условии превращения Балтики в «шведское озеро». Достигнув к середине XVII в. этой цели, шведы были готовы пойти на любые жертвы ради сохранения достигнутого. И хотя Россия в годы Тридцатилетней войны де-факто была союзницей Швеции, тем не менее, ее интересы на Балтике входили в противоречие с интересами Швеции. Претензии к Швеции имели и Речь Посполитая, и Дания. В балтийском регионе завязался тугой узел противоречий, разрешить который иначе, как военным путем, не представлялось возможным.
Не менее тугой узел завязался во взаимоотношениях России с Речью Посполитой. В Москве не забыли о той роли, что сыграли поляки и литовцы в Смуте , помнили и об утраченном Смоленске, и о неудачной войне 1632-1634 гг. Т.о., как отмечала Е.И. Кобзарева, «Россия не могла остаться в стороне от конфликтов, возникавших в балтийском регионе, и еще в XVI в. активно добивалась получения выхода к Балтийскому морю. Здесь она столкнулась со Швецией, стремившейся превратить Балтику в свое внутреннее море. Неизбежными для Русского государства оказались и войны с Польшей, под властью которой находились белорусские и украинские земли, а в период Смуты попали и западнорусские земли». Сложными оставались и отношения с Крымом и Турцией.
Ситуация, в которой оказались Алексей Михайлович и его дипломаты, точно обрисована в «Истории дипломатии»: «В борьбе с Польшей естественными союзниками Москвы были Швеция, Турция и Крым. Но эти государства являлись и соперниками Москвы в отношении литовско-польского наследства… С другой стороны, борьба со Швецией за Балтику толкала Москву к союзу с Речью Посполитой и требовала установления мирных отношений с мусульманским югом. Точно так же и против Турции можно было действовать лишь в союзе с Польшей, т.е. отказавшись от Украины».
Т.о., перед Москвой в середине XVII в. стояло три главных внешнеполитических задачи, три направления — северо-западное, балтийское; польско-литовское, западное и южное, крымское. Все они были тесно переплетены друг с другом, образуя запутанный клубок. Образовавшийся «гордиев» узел развязать было невозможно из-за взаимной неуступчивости сторон. Оставался единственный путь — разрубить его мечом. Однако опыт конфликтов 1-й пол. XVII в. показывал, что нужен был новый, качественно иной меч — масштабность стоявших перед страной внешнеполитических задач требовала не менее масштабных перемен в главном инструменте их реализации — вооруженных силах. И эту задачу русским удалось решить именно во 2-й половине XVII в.
На первый взгляд такое утверждение представляется смелым и в корне расходящимся с господствующей по-прежнему как в отечественной, так и в зарубежной, историографии точкой зрения. Между тем еще сподвижник Петра, князь Я.Ф. Долгорукий, если верить В.Н. Татищеву, как-то в беседе с царем-реформатором поставил ему в пример Алексея Михайловича именно как создателя армии нового типа.
Однако это мнение не было услышано и в историографии, и в общественном сознании прочно утвердилось мнение об отсталости и примитивности московского военного дела допетровской эпохи. Над умами довлел (и продолжает довлеть) яркий и вместе с тем чрезвычайно пристрастный образ старомосковского войска, нарисованный известным публицистом петровской эпохи И. Посошковым в письме к боярину Ф.А. Головину.
Последствия этого пристрастного отношения к военному делу допетровской эпохи сказываются до сих пор, хотя еще в начале 50-х гг. А.В. Чернов отмечал, что осуществленные в эти десятилетия преобразования в военной сфере привели к коренному перевороту в развитии русского военного дела. И действительно, если отрешиться от влияния утвердившегося в российской исторической науке «культа личности» Петра, который предстает в роли «культурного героя», русского Прометея, принесшего варварской Московии свет цивилизации, то нетрудно заметить, что все его «революционные» преобразования своими корнями уходят в XVII век. Без сделанного его прадедом, дедом и отцом, вряд ли стало бы возможным появление самого Петра и «петровского» мифа. И анализ основных тенденций развития военного дела в России во 2-й половине XVII в. подтверждает мнение князя Долгорукого. В правление «Тишайшего» контуры военной революции в России приобрели практически завершенный вид. Приняв на вооружение «протестантскую» модель военного строительства со всеми присущими ей характерными чертами, в Москве занялись ее совершенствованием и адаптацией применительно к специфическим условиям восточноевропейского ТВД и к особенностям Российского государства и общества. При Тишайшем Россия прошла 2-й этап военной революции и вступила в ее 3-ю, завершающую стадию.
На первый взгляд, такое высказывание выглядит излишне смелым. Для неискушенного наблюдателя армия России в царствование Алексея Михайловича представляется сложной «амальгамой» старого и нового, переплетавшихся друг с другом самым причудливым образом и отражавшей тем самым двойственный дух эпохи и особенности характера самого Алексея Михайловича и его ближайших советников. Однако такое впечатление обманчиво и разрушается при соприкосновении с реальными фактами. А их более чем достаточно, чтобы критически отнестись к продолжающим господствовать и в историографии, и в общественном сознании установкам относительно военной «отсталости» Московии XVII в.
Радикальные перемены 2-й пол. XVII в. затронули все четыре основных (по С. Хантингтону) сферы русского военного дела — количественную, организационную, технологическую и общественную, изменив в конечном итоге облик русского войска. Анализ состояния каждой из них подтверждает тезис о переходе процессов, связанных с военной революцией в России, в завершающую стадию.
Одним из наиболее важных признаков военной революции, о чем уже неоднократно говорилось выше, был постоянный рост численности вооруженных сил. Сохранившиеся росписи ратных людей показывают, что на протяжении XVII в. шел пусть и не столь стремительный, как в некоторых странах Западной Европы, но вместе с тем неуклонный рост численности вооруженных сил. Уже в начале 30-х гг. XVII в. в распоряжении Михаила Федоровича было ратных людей не меньше, чем у Ивана Грозного во времена его могущества. Прошло еще 30 лет, и московское войско увеличилось более чем в полтора раза, а в начале 80-х гг. оно достигло почти 200 тыс. ратных людей, и это без учета войска, бывшего в распоряжении украинского гетмана. Динамика изменения численности московского войска показана на следующей диаграмме:

Диаграмма 1. Изменение численности московского войска в 1560-1680 гг.
Однако не количественный прирост был самым главным признаком революционных перемен в армии Алексея Михайловича и его сына Федора. Революционность перемен во 2-й половине XVII в. заключалась не только и не столько в увеличении численности вооруженных сил. В османском войске того времени мы также можем наблюдать сходные перемены. Главное было в качественной перестройке русской армии, имевшей несколько основных аспектов. Во-первых, налицо превращение пехоты в главный род войск. Во-вторых, параллельно шла трансформация старого, унаследованного от позднего Средневековья войска. В-третьих, на первые роли в армии выходит армия «новой модели», вооруженная и обученная по последним европейским стандартам.
Выше уже отмечалось, что одним из важнейших признаков классической модели военной революции был рост удельного веса пехоты в составе вооруженных сил и превращение ее в «царицу полей». В России 2-й пол. XVII в. наметившаяся в конце XVI в. тенденция к увеличению значения пехоты получила дальнейшее развитие. Меньше чем за полвека пехота (включая в нее солдат, драгун и стрельцов) потеснила конницу и составила основную часть русского войска. Если в 1651 г. московское войско насчитывало ~ 55 тыс. солдат, драгун и стрельцов, то в 1680 г. — около 126 тыс. (и это без учета городовых казаков). Изменение соотношения пехоты и конницы в московском войске 2-й пол. XVII в. показано в следующей диаграмме:

Диаграмма 2. Изменение соотношения пехоты и конницы в русском войске в 30-х — нач. 80-х гг. XVII в.
Серьезные перемены изменили лицо главной ударной силы старомосковского войска — поместной конницы. Внешний вид всадника поместной конницы к середине XVII в. радикально переменился. В комплексе вооружения дворян и детей боярских огнестрельное оружие постепенно вытесняло саадаки, а доспехи использовались все реже, ибо они недостаточно эффективно защищали от пуль и картечи. Можно согласиться с мнением О.А. Курбатова, отмечавшего, что к сер. XVII в. «стандартный» комплекс вооружения всадника поместной конницы, включавший в себя саадак и доспех, по существу прекратил свое существование.
В первую очередь на новые стандарты перешли дворяне и дети боярские северо-западных и «замосковных» служилых «городов». Здесь 87 % дворян и детей боярских являлись на смотры вооруженные огнестрельным оружием, 10 % с саадаком и саблей и 3 % с саблей, топором или рогатиной. Правда, на юге, в «польских» городах дедовский комплект вооружения сохранился несколько дольше. К примеру, как показывают десятни середины века, всадники поместной конницы южных и юго-восточных уездов по прежнему отдавали предпочтение саадаку — в поход с ним и с саблей выступали 62 % дворян и детей боярских, 38 % же — с огнестрельным оружием. Однако правительство все равно требовало от служилых людей, выезжавших на службу с саадаками, иметь еще и огнестрельное оружие. В итоге, как писал О.А. Курбатов, к сер. XVII в. «…снаряжение конных частей «сотенной службы» уже полностью соответствовало уровню военного дела восточноевропейских стран. Основу комплекта вооружения составляли сабля и пистоль; лучше вооруженные имели либо пару пистолей, либо карабин (или русскую «езжую пищаль»), либо все это вместе… Вооружение пистолетами и карабинами и взаимодействие с драгунами — это явления, характерные в то время и для традиционной кавалерии Речи Посполитой… Однако, если модернизация польской конницы в XVII в. на этом исчерпала себя, то в России скоро последовал этап более глубоких реформ, заключавшихся в организационном преобразовании конной ратной службы. В ходе войны 1654-1667 гг. подавляющее большинство дворян и детей боярских «сотенной службы» было переведено в состав полков рейтарской службы…».
Чем была обусловлена такая трансформация старой конницы? Причины вполне очевидны. Во-первых, опыт войны 1654-1667 гг. показал, что, как писали дьяки в 1667 г., «… рейтары на бое крепче сотенных людей». Во-вторых, войны и разного рода работы еще более тяжким, чем ранее, грузом ложились на плечи служилых людей, принося им по большей части одни огорчения и расходы вместо прибытков. Жалобами на тяжелое положение и невозможность дальше нести службу пестрят челобитные помещиков того времени. Вполне естественно, что поместная конница постепенно приходила в упадок. Перестав же соответствовать своему предназначению, она повторила судьбу польско-литовского посполитого рушения и османских сипахи. Ее численность и значение непрерывно сокращались, что отражено в графике 1.

График 1. Изменение численности поместной конницы в XVII в.
Падение значимости поместной конницы еще заметнее, если принять во внимание изменение ее удельного веса в составе московского войска с сер. XVI по конец XVII в. В 1680 г. согласно росписи ратных людей служилых людей, дворян и детей боярских старой, сотенной службы, было 16097 чел., и при них ратных людей 11830, тогда как в 1663 г. дворян и детей боярских сотенной службы было 21850 чел., а в 1651 г. — 39408 чел. И это при том, что общая численность московского войска непрерывно росла, превзойдя в конечном итоге показатели начала 60-х гг. XVI в. Процесс снижения удельного веса поместной конницы отражен в диаграмме 3:

Диаграмма 3. Изменение удельного веса поместной конницы в русском войске в 60-х гг. XVI — нач. 80-х гг. XVII в.
Исход предугадать было несложно. 12 января 1682 г. было обнародовано «Соборное деяние об уничтожении местничества». Этим указом не только было ликвидировано местничество, но и была сделана попытка придать остаткам поместной конницы большую регулярность, переформировав ее в полки, состоявшие из рот по 60 всадников во главе с ротмистром. И хотя эта реорганизация не была завершена, она весьма симптоматична как осознание в Москве того факта, что «нестройная» поместная конница изжила себя.
Сложнее дать характеристику второму по значимости виду старомосковского войска — стрельцам. С одной стороны, есть свидетельства иностранцев, достаточно низко оценивавших боеспособность стрельцов, но с другой стороны, другие современники, напротив, полагали стрельцов главной ударной силой русского войска того времени. Чем можно объяснить такое противоречие, тем более если учесть непрерывный рост численности стрельцов? За полстолетия их число выросло вдвое — с 28 до 55 тыс., а московских стрельцов — и того более, с 8 тыс. до 20 тыс. Динамика изменения численности стрелецкого корпуса отражена в следующей диаграмме:

Диаграмма 4. Изменение численности стрелецкого корпуса в XVII в.
На наш взгляд, в этом противоречии нет ничего необычного, если принять во внимание изменение характера стрелецкой службы. С сер. XVII в. стрельцы несут преимущественно полицейскую и гарнизонную службу и все реже участвовали в кампаниях, на что указывал Г. Котошихин. Рутинная гарнизонная служба, сопряженная с заботами по хозяйству, не лучшим образом влияла на боевые качества стрельцов, многие из них к тому времени были «…люди торговые и ремесленные всякие богатые многие». И если в больших стрелецких гарнизонах уровень подготовки и боеспособности был достаточно высок, особенно если учесть, что с конца 30-х гг. в процесс их обучения внедрялись элементы солдатского учения, то этого нельзя о небольших стрелецких гарнизонах в провинции.
Трансформация традиционного старомосковского войска сопровождалась его постепенным оттеснением на второй план регулярными полками армии «новой модели» — кавалерийскими рейтарскими, пешими солдатскими и «ездящими» драгунскими. Их число на протяжении 2-й половины столетия постоянно возрастало, о чем свидетельствует график 2:

График 2. Динамика роста числа полков армии «новой модели» во 2-й пол. XVII в.
Основу кавалерии армии «новой модели», ее «руки», составили организованные и обученные по последним европейским стандартам рейтарские полки. Новый этап их истории начался в мае 1649 г., когда главный военный советник правительства Алексея Михайловича голландец полковник И. фон Бокховен получил приказ набрать полк рейтар, и превратить его в образцово-показательный и одновременно учебный. Подводя общий итог работе Бокховена и его помощников, шведский резидент И. Родес сообщал в Стокгольм 31 мая 1652 г., что полковник «…уже 2-3 года обучает здесь упражнениями конного строя два русских полка, которые б/ч состоят из благородных. Думают, что он теперь так сильно обучил, что среди них мало найдется таких, которые не были бы в состоянии заменить полковника, а чтобы их даже еще больше усовершенствовать и сделать совершенством, он теперь обучает их упражнениям также пешего строя с пиками и мушкетами (выделено нами — thor)…».
Рост напряженности в отношениях между Россией и Речью Посполитой, а затем начало целой серии войн — русско-польской, русско-шведской и русско-турецкой способствовали быстрому росту числа рейтарских полков, о чем свидетельствует график 3. Это и немудрено — в Москве хорошо уяснили, что главное преимущество рейтар перед «сотенной» конницей заключалось именно в их «стройности». Имея худший конский состав и нередко уступая в индивидуальном искусстве владения оружием и конем, рейтары Алексея Михайловича могли взять верх над польскими гусарами и панцерными, тем более над татарами и турками, только действуя в сомкнутых массах и используя массированный залповый огонь из карабинов и пистолетов.

График 3. Изменение численности рейтарских полков в русской армии во 2-й пол. XVII в.
Обзаведясь рейтарами, русское командование не оставило попыток заполучить кавалерию, способную производить стремительные атаки подобно польским гусарам. Первые гусарские роты появились в русском войске около 1634-1635 гг., а в кампанию 1654 г. был выставлен уже тысячный гусарский полк под началом полковника Х. Рыльского. И хотя этот полк к концу 50-х гг. был, судя по всему, распущен, на смену ему пришли сначала в 1660 г. отдельные гусарские роты, а затем в 1661 г. гусарский полк Новгородского разряда. Примерно тогда же на юге, в Белгородском полку, появляются отдельные полки копейщиков.

Московская пехота. Рис. 1672 г.
Не менее серьезными были перемены в русской пехоте, которая при Алексее Михайловиче и его сыне Федоре Алексеевиче состояла из старого стрелецкого войска, о котором говорилось выше, и полков солдатского и драгунского строя, вооруженных и обученных по-европейски. Еще раз подчеркнем, что перерыва в существовании солдатских и драгунских полков между Смоленской войной и войной с Речью Посполитой в 1654-1667 гг. практически не существовало. Распущенные после Поляновского мира, солдаты и драгуны были вскоре призваны под знамена в связи с обострившейся ситуацией на южной границе. Поскольку, несмотря на возведение «1-й очереди» Белгородской черты, татарская угроза по-прежнему оставалась актуальной, в Москве наряду с продолжением строительства Белгородской черты решили увеличить число ратных людей на степном рубеже. В целях экономии правительство решило прибегнуть к созданию поселенных драгун. Этот шаг московские дьяки объясняли тем, что хотя на «Польской Украйне» и крепости есть, и ратных людей много, но большинство из них «скудны и к службе ненавычны и ружья у них мало…». Потому и было решено послать туда начальных людей с поручением перебрать ратников, «скудных» вооружить государевым ружьем и шпагами и обучить их драгунской службе. При этом предполагалось, что лошади и «кормы» будут у них свои, и в целях экономии «…как время тихо, и те люди и с своими учители будут в домех своих жити и домы строить и по времяни и учатся, чтобы ученья не забыть, а в приход воинских людей всегда будут готовы и к крепостям блиски и поспешить мочно…». Таким образом, создание поселенных драгун представляло собой попытку совместить эффективность вооруженных и обученных по-европейски войск с относительной дешевизной поместной конницы. Такой подход был особенно актуален для организации плотной завесы на южной границе на случай набега татар. На это же обстоятельство указывал позднее Григорий Котошихин, четко обозначив тем самым главную задачу, стоявшую перед драгунами.
Первые опыты с созданием поселенных войск были предприняты еще в конце царствования Михаила Федоровича, но особенное развитие эта практика получила позднее. Начиная с 1646 г. крестьяне ряда южных уездов и волостей были отобраны у прежних владельцев в казну, записаны в драгунскую службу и получили оружие (карабины и шпаги). Специально для их обучения драгунскому строю из Москвы были присланы начальные люди. Система первоначально показала свою эффективность — выучка драгун была выше, чем у поместной конницы, а содержание их обходилось казне значительно дешевле, нежели постоянных драгунских полков, поэтому их численность постепенно росла. Сметный список военных сил России 1651 г. показывал численность поселенных драгун 5594 чел. Спустя два года перепись поселенных драгун на юге России показала, что налицо их числилось 7147 конных драгун и еще 5799 пеших, а также 3641 драгунский недоросль.
Опыт создания поселенных войск был распространен и на северо-западную границу. Здесь было решено завести поселенные солдатские полки, о которых Г. Котошихин писал: «Полки салдатцкие, старые, издавна устроены житьем на порубежных местех острогами, в двух местех к границе Свейского государства, Олонец, Сомро, погостами и деревнями со всем своим житьем и з землею; и в воинское время емлют их на службу и учинят к ним полковников и иных началных людей. А для оберегания пограничных мест и острожков и домов оставливают их четвертую долю людей; и податей с них на царя не берут ничего; а когда войны не бывает, и тогда с них берут подати, что и с ыных крестьян, по указу, по чему положено. А будет тех салдатов немалое число…».
Cоздание поселенных солдатских полков началось в феврале 1649 г., когда в Заонежье было послано 98 иноземных начальных людей во главе с полковниками А. Гамильтоном и М. Кормихелем для формирования двух солдатских полков из крестьян 6 заонежских и 3 лопских погостов. Затем последовал царский указ от 21 ноября 1649 г., согласно которому в «Сумерскую волость и Старополье» был послан воевода И.М. Кайсаров с приказом местных крестьян и бобылей «устроить в салдатцкую службу». Вместе с воеводой были посланы также 6 иноземных начальных людей во главе с полуполковником И. Фанзаленом и партией оружия, рассчитанной на формирование 10-ротного полка из 1000 солдат-мушкетеров. Всего для солдатской и драгунской службы на северо-западной границе было набрано 7902 крестьянина, сведенных в 4 полка. Солдаты этих поселенных полков частью несли пограничную службу на русско-шведской границе от Старой Руссы до Онеги, частью стояли гарнизонами в небольших фортах-острожках вдоль границы, частью — в резерве в Пскове, Старой Руссе, Новгороде и Олонце, где располагались штаб-квартиры полков. Помимо этих полков, в апреле 1648 г. был сформирован и послан на Дон в помощь донским казакам тысячный солдатский полк под началом воеводы А. Лазарева, набранный как из опытных солдат-ветеранов, так и из охочих людей.
Однако все эти шаги носили в известной степени предварительный характер. По настоящему процесс создания новых солдатских полков развернулся с весны 1653 г., когда было принято принципиальное решение о вступлении в войну с Речью Посполитой. К весне следующего года в столице и в Подмосковье (например, в Коломне) было создано не менее 15 солдатских и 2 драгунских полков. На Белгородской черте летом 1653 г. было начато формирование еще 4-х солдатских полков. Вместе с созданными ранее солдатскими и драгунскими полками на южной и северо-западной границах к началу летней кампании 1654 г., открывшей череду войн, которые с небольшими перерывами будут длиться до 1723 г., в состав армии «новой модели» входило, по приблизительным расчетам, 22 солдатских и 9 драгунских полков общей численностью до 37 тыс. солдат и начальных людей.
Продолжение войны потребовала дальнейшего наращивания военного потенциала России, что способствовало росту числа солдатских полков. В 1662 г. русская пехота включала в себя 31 солдатский и 3 драгунских полка. К 1680 г. число солдатских и драгунских полков выросло до 41. Динамику увеличения числа солдатских и драгунских полков демонстрирует график 5:

График 4. Изменение числа солдатских и драгунских полков во 2-й пол. XVII в.
Не менее серьезными и глубокими были преобразования в организации русских вооруженных сил, причем на всех уровнях. Система управления вооруженными силами, структура частей, организация полевых армий — везде явственно просматриваются черты нового, присущего новой эпохе в развитии военного дела.
Прежде всего необходимо отметить перемены, произошедшие в центральном аппарате управления вооруженными силами. Выше уже говорилось, что, поскольку временно-контрактная армия как форма организации вооруженных сил в России не существовала, то государство был вынуждено изначально взять на себя вопросы, связанные с набором, снабжением и управлением войсками как в мирное, так и в военное время. Поэтому в этом вопросе Россия шла на шаг вперед Европы. Главную роль в управлении войском играли московские приказы, система которых, сформировавшаяся в общих чертах во 2-й половине XVI в., в XVII в. получила дальнейшее развитие. Наряду со старыми Разрядным, Стрелецким, Пушкарским и Оружейным приказами, существовавшими или появившимися в начале XVII в., в 20-х — нач. 50-х гг. возникает целый ряд новых — Иноземский (1623 г.), Рейтарский (1649 г.), Сбора даточных людей (1632 г.), Сбора ратных людей (1637 г.), Ствольных дел (1646 г.). Характерной чертой приказного управления во 2-й половине XVII в. стало объединение нескольких приказов под руководством одного человека для координации их действий. Например, царский тесть боярин И.Д. Милославский с конца 40-х гг. и до 1666 г. руководил Иноземским, Рейтарским и Стрелецкими приказами.
К концу русско-польской войны сложилась новая система управления вооруженными силами, характерной чертой которой стала определенная ее децентрализация, выразившаяся в переносе части управленческих функций на места, в разрядные полки (позднее разряды — военно-административные округа). Эта новая тенденция была обусловлена, по мнению П.Н. Милюкова, необходимостью оперативнее откликаться на возникающие угрозы со стороны потенциальных противников и иметь на предполагаемом театре военных действий достаточно крупные армейские группировки, способные быстро отмобилизоваться и перейти к активным действиям.

Пищаль Большого наряда. Рис. Э. Пальмквиста. 1674 г.
Первоначально разрядные полки стали возникать на западной и южной границах, там, где политическая и стратегическая ситуация была наиболее взрывоопасной и напряженной. Еще в 1646 г., во время строительства Белгородской черты, предпринималась попытка создания единого центра управления военными формированиями на юге России в Белгороде. Однако тогда дело доведено до конца не было, и только в 1658 г. был образован Белгородский разрядный полк. Затем последовали другие и к концу 70-х гг. их было уже 10 — Белгородский, Северский (Севский), Новгородский, Смоленский, Казанский, Тобольский, Томский, Енисейский, Рязанский и Украинный (Тульский). Свой окончательный вид система военно-административных округов приобрела в 1680 г., когда вместо расформированного Тульского разряда были образованы Московский, Владимирский и Тамбовский разряды.
С постепенным складыванием разрядной системы изменилась и организация полевой армии. Старая система деления полевого войска уходит в прошлое. Если в начале войны с Речью Посполитой, во время похода 1654 г. мы еще видим традиционное полковое деление русского войска, то к началу 70-х гг. оно уже практически исчезло. Полевые армии, действующие на определенном стратегическом направлении, включали в себя отдельные корпуса — разрядные полки. Последние, в свою очередь, обычно делились на большой воеводский полк и полки его «товарищей», состоявшие из солдатских, драгунских, рейтарских полков, сотен поместной конницы и приказов стрельцов. От старой полковой организации остался лишь особый отборный Государев полк, элита поместной конницы. Разрядные полки и их составные части представляли вполне самостоятельные, состоявшие из трех родов войск, «корпуса» и «дивизии», способные действовать как отдельно, так и в составе более крупных, стратегических группировок войск.
Своего рода венцом преобразований в системе управления армией в XVII в. стал царский указ от 24 ноября 1681 г. о созыве в Москве специального совещания думных и ратных начальных людей «для лучшаго своих государевых ратей устроения и исправления» с учетом полученного в прежних кампаниях опыта. Это совещание не успело сделать многого из-за преждевременной смерти царя Федора Алексеевича и начавшейся полосы внутриполитических неурядиц и смут. Однако по его инициативе было подготовлено и обнародовано 12 января 1682 г. «Соборное деяние об уничтожении местничества». Этим указом было ликвидировано местничество, столь немало вредившее военным усилиям Российского государства еще с конца XV в.
Перемены в системе управления войсками сопровождались не менее серьезными изменениями в их организации и структуре. Структура полков армии «новой модели» определялась иными, чем в старом московском войске, принципами. В ее основу была положена рота, несколько рот вместе со «штабом» образовывали полк. Внутреннее устройство рот и полков, так же как и число и должности начальных людей в целом следовало порядку, расписанному полковником И. фон Бокховеном и принятом в большинстве европейских армий того времени. В полковом расписании числились должности полковника (он же командир 1-й роты), его заместителя полуполковника (командовавший 2-й ротой), майора (командира 3-й роты), капитан-поручик (замещавшего полковника на месте ротного командира), капитана (в кавалерии ротмистра), поручика, прапорщика, квартирмейстера, обозничего, а также урядников и «приказных людей меньшего чину» (судьи, профосы, писари, толмачи, лекари, священники и пр.). При этом большие потери от дезертирства (извечной болезни всех молодых армий), болезней и пр. вели к постоянному некомплекту полков, да и не все должности начальных людей могли замещаться.
«Стандартный» солдатский полк на рубеже 50-х — 60-х гг. XVII в. имел 10 рот и около 1000 солдат, однако, как и в европейских армиях того времени, число рот и солдат могло существенно различаться, соответственно изменялось и число солдат. Так, в 1659 г. солдатский полк полковника Н. Баумана состоял из 3 тыс. солдат, годом позже выборные солдатские полки А. Шепелева и Я. Колюбакина насчитывали соответственно немногим менее 2,5 тыс. и около 1,7 тыс. солдат. 4 солдатских полка Белгородского полка в 1667/1668 гг. имели в списках 4556 солдат, т.е. менее 1200 на полк. Весной же 1680 г. создававшиеся при «разборе » Белгородского полка 10 солдатских полков должны были иметь по 1600 солдат. Полки, насчитывавшие 2 или более тысяч солдат, для удобства применения могли делиться на «тысячи» или «шквадроны » численностью обычно 5 рот каждая.
Схожая картина наблюдалась в драгунских, рейтарских и иных полках армии «новой модели». При 8-10 ротах драгунский полк в начале войны с Речью Посполитой мог иметь 1,5 тыс. солдат, рейтарский и гусарский — 1 тыс. Однако в ходе войны появляются полки с иным числом рот и другой численности. Драгунские полки могли иметь от 500 до 1200 солдат в полку, а рейтар и того больше. Так, в нач. 60-х гг. некоторые рейтарские полки имели более 2 тыс. солдат, в Белгородском полку в 1667/1668 г. числилось в 7 рейтарских полках 8048 копейщиков и рейтар — в среднем по 1150 человек на полк. Заслуживает внимания появление на втором этапе русско-польской войны рейтарских полков смешанного состава — помимо рейтарских рот они включали в себя роты драгун и копейщиков. Так, в 1662 г. рейтарский полк полковника В. Змеева имел в строю 78 начальных людей, 1604 рейтара и 840 драгун, полковника Г. Тарбеева — соответственно 42, 1113 и 247, а Р. Палмера — 40, 983 и 153. При разборе же весной 1680 г. Белгородского полка формируемые 6 рейтарских полков должны были иметь в своем составе шквадрон копейщиков (250 чел.) и по 1000 рейтар. Можно предположить, что появление в составе рейтарских полков драгун и копейщиков отражало опыт столкновений с польской конницей. Приданные рейтарам драгуны должны были усилить огневую мощь рейтарских рот, а копейщики — ударную.
Т.о., можно заключить, что организационная структура полков русской армии «новой модели» еще не устоялась — если роты были устроены более или менее однообразно, то этого нельзя сказать о полках. Однако разность в их устройстве была обыкновенной для того времени и отражала специфические условия их формирования, привычки и пристрастия полковников, а также стремление найти наилучшую форму их внутренней организации. Отрицать на этом основании их регулярность вряд ли возможно, и потому можно с уверенностью сказать, что в этом вопросе русские сделали большой шаг вперед на пути создания современной армии Нового времени.
Еще одной чрезвычайно важной чертой, характеризующей радикальный характер перемен, происходивших в военном деле России во 2-й пол. XVII в., стало серьезное внимание к военной теории. В 1647 г. был опубликован в синодальной типографии (! — thor) первый печатный русский военный устав и одновременно первая русская печатная книга, посвященная основам военного дела — «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Эта книга вышла огромным по тем временам тиражом — 1200 экз. В ней подробнейшим образом рассматривались общие вопросы западноевропейской военной теории и практики в отношении пехоты. «Учение…» доказывало необходимость и преимущества именно постоянной армии — хотя бы потому, что мушкетер, вооруженный фитильным ружьем, должен был четко усвоить 143 ружейных приема, а пикинер — 21 прием, которые были подробнейшим образом проиллюстрированы в книге гравюрами. Устав рассматривал вопросы вооружения и снаряжения рядового пехотинца, организации пехотной роты и порядок учения одиночного, ротного и полкового.

Приемы обращения с пикой согласно Учению и хитрости…
Правда, представлявшее собой достаточно вольный перевод какого-то немецкого военного трактата начала века, «Учение и хитрость…», видимо, не вошло в повседневную практику русской армии 2-й половины XVII в. Из всего тиража за 10 лет было продано всего 134 экз., после чего оставшиеся 1066 книг забрали в Приказ Тайных дел. В документах лишь один раз, 29 декабря 1661 г., упоминается о его передаче в войска для обучения солдат. В любом случае, независимо от того, стала ли «Учение и хитрость…» настольной книгой начальных людей полков новой армии или нет, сам факт появления такой работы весьма примечателен. Он наглядно свидетельствовал об осознании русскими важности военной теории и понимания необходимости создания печатных наставлений для организации более или менее единообразной подготовки войск. Об этом же говорят и другие факты. Так, в 1650 г. с голландского была переведена книга о строевом учении рейтар. Годом позже полковник И. фон Бокховен по требованию боярина И.Д. Милославского подготовил записку о порядке строевых учений, причем эта записка, как следует из ее содержания, была не первой, которую он написал. 21 августа 1653 г. датируется еще одна записка, составленная полковником Александром Крафертом, о количестве вооружения и амуниции, необходимых для приведения солдатского и рейтарского полка в боеспособное состояние. Большой интерес к европейской военной теории проявлял и сам царь Алексей Михайлович.

Приемы обращения с фитильным мушкетом согласно Учению и хитрости…
К этому же времени относится и первая попытка обобщить опыт многочисленных войн, что вели русские. Речь идет о сочинении писателя и публициста 2-й половины XVII в. Ю. Крижанича. Хотя в своих размышлениях о России он касался самых разнообразных проблем, тем не менее одним из наиболее важных для него был именно вопрос об особенностях развития русского войска в связи с влиянием военного опыта Запада и Востока. Крижанич первым в России попытался проанализировать те перемены, которые произошли в русском военном деле с внедрением огнестрельного оружия.
Военное дело было, по мнению Крижанича, одним из наиважнейших занятий, жизненно необходимых для государства и общества. Однако в этом случае возникал закономерный вопрос, каким образом строить свою армию? Главная идея концепции Крижанича лучше всего выражена в широко известных его словах: «По разну как три народы нам супротивники имают сея крепости. Ляхи бо храбростию, немцы силою, крымцы борзостию, без мала превозмогают наших вояков. Супроть таковых адда поражненым неприятелем, не единым строем оружия, но разными законми бороться есть треба. — Мы пак Русы во всех трех тех крепостях есмо средни. Борзостию превозмогаем немцев; силою крымцев. З ляхми есмь един народ, и норов. В те время превозмогаем ляхов пешими силами, и добрым рядом. А в храбрости не великим делом можем им ея зверстати… В способах ратного дела мы занимаем среднее место между скифами и немцами. Скифы особенно сильны только легким, немцы только тяжелым вооружением: мы же удобно пользуемся тем и другим, и с достаточным успехом можем подражать обоим помянутым народам, хотя и не сравниваемся с ними. Скифов мы превосходим вооружением тяжелым, а легким близко к ним подходим; с немцами же все наоборот». В этой фразе в сжатой форме выражена вся суть размышлений Крижанича, пытавшегося найти некий «третий» путь в развитии русского военного дела как нечто среднего между западно- и восточноевропейской военными традициями, главное различие между которыми заключалось в ориентации на действия в совершенно разных условиях.
Главным неприятелем для русских Крижанич полагал татар, и, учитывая особенности степного ТВД и татарской тактики, резко отрицательно высказывался против заимствования «немецкой» тактики и вооружения как непригодной для войны со столь подвижным и маневренным неприятелем. Оружие и тактика войск должны соответствовать национальному характеру воинов, их природе и тем условиям, в которых они должны будут сражаться. Наиболее же близкими по духу русским были «ляхи», которые, как указывал Крижанич, «…много раз достойно бились с немцами, ибо они имели легкую конницу, казаков и татар, а вместе с нею тяжелую конницу — своих гусар, а у немцев нет ни того, ни другого строя». И продолжая свою мысль, он писал, что «… то, от чего мы ждем силы, больше всего несет нам гибель: это — полковники и учителя немецкие и помощь шведская. С Божьей милостью с русским [военным] строем была взята Казань, Астрахань и Сибирь. А с немецким строем (если вовремя не опомниться), легко можно лишиться этих земель…».
Учитывая, что русским так или иначе приходится вести войну с разными противниками, Крижанич советовал «…создать разные рода или строи войска и выяснить, какие строи [войска] существуют у неприятелей, с которыми мы воюем, и в чем они искусны, и против этого выставлять свои строи…». Полученный при их создании и использовании опыт необходимо было обобщить и в случае войны с определенным противником «увеличивать тот строй, который окажется потребным…».
Главным же образцом для подражания должны были стать родственные русским «ляхи» и их военные учреждения, но без присущего полякам щегольства и пышности. И хотя трактат Ю. Крижанича так и остался практически неизвестным и дошел до читателей спустя два столетия после его написания, тем не менее, его рассуждения представляют интерес как первая попытка обобщить тот колоссальный военный опыт, накопленный русскими в многочисленных войнах с самыми разнообразными противниками.
Примечательно, что и «Учение…», и Крижанич — все они подчеркивают значимость и необходимость регулярного, постоянного обучения новому «ратному строю». Это также было еще одним ярким признаком военной революции в России. Новая тактика, теснейшим образом связанная с изменившимися структурой и вооружением солдат, драгун и рейтар неизбежно вела к возрастанию требований к качеству подготовки личного состава полков армии «новой модели». Осознавая необычность этого нового для русских дела и отсутствие необходимого числа собственных специалистов, правительство Алексея Михайловича активизировало работу по приглашению на русскую службу иностранных офицеров-инструкторов. Ко времени начала очередного витка военных реформ в Москве хорошо уяснили себе, что для успешной борьбы с Речью Посполитой и в перспективе со Швецией сильная армия была необходима. Прежний же опыт показывал, что без помощи европейских специалистов решить эту задачу невозможно, на что указывал в послесловии к изданному в 2002 г. «Дневнику» русского генерала шотландца П. Гордона Д.Г. Федосов.
С этим теперь было проще, чем 20 лет назад. В Европе только что закончилась Тридцатилетняя война, а в Англии — Гражданская война. Множество профессиональных солдат остались без работы, и предложение варваров-московитов оказалось для них как нельзя более кстати. В 1647 г. в Россию вернулся в составе дипломатической миссии и остался на русской службе А. Лесли. Это событие действительно, как выразился С.А. Нефедов, носило знаковый характер — именно А. Лесли стал одним из главных творцов русской армии «новой модели» в начале 30-х гг. XVII в. Вслед за Лесли в Россию хлынул поток европейских офицеров самых разных чинов. Если в 1643 г. в ведении Иноземского приказа состояло 685 «поместных и кормовых немец» «старого и нового выезду», то согласно росписи 1651 г., на русской службе состояло 2707 иноземцев, большая часть которых представляла именно начальных людей — офицеров и унтер-офицеров.
Требования к прибывающим иностранным офицерам были ужесточены. Каждого желающего послужить русскому царю московские приказные чины экзаменовали на предмет знаний строевых обращений и приемов. О таком экзамене подробно рассказал будущий генерал шотландец П. Гордон, вспоминая о начале своей службы русскому царю.
Чему и как обучали рекрутов, набранных в солдатские, драгунские, рейтарские полки? Поскольку «Учение и хитрость…», очевидно, не стало настольной книгой начальных людей полков армии «новой модели», да и к середине XVII в. оно изрядно устарело, учили рядовых солдат и младших командиров русские начальные люди, прошедшие школу А. Лесли и И. фон Бокховена, и иностранные офицеры, используя собственные знания и навыки. Поскольку значительную часть полковников армии «новой модели» на первых порах составляли эмигранты из туманного Альбиона, можно предположить, что при обучении русских солдат иностранными офицерами нашел применение преимущественно опыт английской Гражданской войны (во всяком случае, во 2-й пол. 50-х — нач. 60-х гг. XVII в.). Но вот насколько эти порядки были приняты русскими, неясно. Во всяком случае, исходя из ведомостей на выдачу оружия и амуниции и описям сданного полкового имущества, солдатские полки сильно различались друг от друга по вооружению, а, следовательно, и по тактике. Так, полки, что формировались в 1653-1654 гг. в Москве и ее окрестностях, получили и мушкеты, и пики — можно предположить, что в пропорции 2 к 1 — как и рекомендовал И. фон Бокховен. Однако и поселенные полки на северо-западе, и формировавшие накануне русско-польской войны на южной границе солдатские полки получили только мушкеты.
Все это говорит о том, что, скорее всего, полковники, получив под свою команду полк, набирали в него офицеров из числа своих знакомых, сослуживцев, родственников и учили своих подчиненных тому, что они знали сами. Т.о., можно предположить, что более или менее единообразие соблюдалось в одиночном (приемы обращения с мушкетом и пикой) и ротном учении, а в остальном все зависело от вкусов, пристрастий и привычек полковников.
Вместе с тем общая ориентация обучения солдат и главная тактическая идея, которой придерживались в русском войске того времени, могут быть определены достаточно четко. Основные требования к личному составу солдатских, драгунских и рейтарских полков хорошо видны из письма Алексея Михайловича, человека, как уже неоднократно отмечалось выше, неравнодушного к военному делу. И хотя военные знания Алексея Михайловича носили умозрительный, книжный характер, и черпал он их из разговоров с иностранными офицерами и генералами или из доступной переводной литературы. Во всяком случае, переписка Алексея Михайловича с воеводами и полковниками показывает, что он неплохо знал основные положения «Учения и хитрости…» и хорошо ориентировался в вопросах современного ему строевого учения и тактики.
К примеру, в октябре 1660 г. царь писал князю Ю.А. Долгорукому: «…Да слух носитца, — как скочили поляки на Григорьев полк Тарбеева, и они выпалили не блиско. А что отняли их сотни московские твоим стройством , и то добро, а впредь накрепко приказывай , рабе Божий, полуполковникам и началным людем рейтарским и рейтаром, чтобы отнюдь никоторой началный, ни рейтар, прежде полковничья указу, и ево самово стрелял бы карабинной и пистонной, нихто по неприятелю не палил …». При этом Алексей Михайлович предписывал, чтобы «…ружья в паленье держали твердо и стреляли они же по людем и по лошадем , а не по аеру, и пропаля бы первую стрельбу, ждали с другою стрельбою иных рот неприятельских…». Продолжая свою мысль дальше, царь требовал от начальных людей: «…Полковникам и головам стрелецким надобно крепко знать тое меру, как велеть запалить, а что палят в двадцати саженях, и то самая худая, боязливая стрельба, по конечной мер пристойно в десять сажень, а прямая мера в пяти или в трех саженях , да стреляти надобно ниско, а не по аеру…».

Атака польскими гусарами неприятельской пехоты
Кроме того, Алексей Михайлович в этом же письме требовал от воеводы, чтобы тот «…да для помычек твоего полку конных вели рейтаром и пешим промешки строить пространнее, и как лучитца помчать конных, вели им бежать в промешки, а строю не вели ломати и стирать (выделено нами — thor)… прикажи, а будет помчать из далека конных на стройных людей пеших или конных, на середине роты, а не в те промешки, которые на то устроены, вели разступатся строем, а буде на конечныя роты, вели потому же разступатся или тем же конечным ротам отдаваться и заходить за полк; в драгунских бы полках были надолобы с пиками, и к бою бы их носили, а не возили…».
Из этого письма хорошо видно, что требовалось от русских рейтар, драгун и солдат. Характерно, что в письме не идет речь о производстве быстрой, решительной атаки, подобно тому, как это делали польские гусары. Напротив, царь требует правильной, упорядоченной стрельбы, сохранения строя и дисциплины в строю, четкого выполнения команд начальных людей и полковников. Тактика русских носила явно оборонительный, огневой характер. Для усиления обороны солдат и спешенных драгун царь требовал в обязательном порядке использовать «испанские рогатки» — т.е. те самые упомянутые в письме «надолобы с пиками», позволявшие пехоте и спешенным драгунам без опаски подпускать неприятельскую конницу на близкое расстояние и вести по ней залповый огонь с коротких дистанций.
Оборонительной огневой тактики придерживались, судя по всему, и русские рейтары, которые с легкой руки полковника Бокховена приняли на вооружение голландскую тактическую модель. Суть ее заключалась в том, что выстроенные в 6 шеренг всадники залповым огнем с места должны были встретить атакующего неприятеля, привести его в замешательство и беспорядок, сбить темп его атаки, а потом контратаковать его и опрокинуть натиском тесно сомкнутой массы. Эффективность такой тактики была прямо пропорциональна степени дисциплинированности и выучки рядовых рейтар и опытности их офицеров, способных правильно определить момент для произведения залпа с тем, чтобы нанести противнику максимальный урон.
Выросшие требования к уровню обучения рядовых и младших начальных людей потребовали и более серьезного отношения к их подготовке. Строевое учение становится постепенно нормой, причем интенсивность его во время войны существенно увеличилась. Если до войны иностранным и русским начальным людям, направленным обучать поселенных солдат и драгун, предписывалось заниматься подготовкой своих подчиненных поначалу ежедневно, а потом, с 1650 г., не реже 1-2 раз в неделю, то П. Гордон вспоминал, что, приступив к службе в Москве, он получил в распоряжение 700 бывших беглых солдат, которых он обучал «дважды в день при ясной погоде». В другой же раз ему было поручено обучить правильной залповой стрельбе 1200 человек за 5 дней к царскому смотру. «Я с офицерами обучал их на Неглинном ручье от рассвета до темноты, давая лишь час в полдень на обед (выделено нами — thor)…».
Успех обучения напрямую зависел от степени интенсивности муштры, и те начальные люди, которые понимали это, добивались отличных результатов. Тот же Гордон сумел подготовить своих солдат наилучшим образом. 14 января 1664 г. «…в поле у Новодевичьего монастыря соорудили возвышение, и все пехотные полки были выведены из Москвы и расставлены a la hay. Стремянной полк был построен вдоль ограды вокруг помоста, а наш — 1600 человек в двух батальонах, или эскадронах, — во фронт за пределами оной. Император, проследовав через стрелецкие полки, стоявшие по обе стороны дороги, поднялся на возвышение. 50 пар литавр на высоком дощатом помосте все время издавали нестройный гул. Затем полкам было приказано открыть огонь, что они и исполнили поочередно, хотя очень нестройно , начиная с ближайших от города, а после — Стремянной и выборные полки, стоявшие справа от нас. Когда все закончили, мы сперва выстрелили из своих шести орудий, потом из мелкого ружья, каждый эскадрон отдельно и все словно единым выстрелом ; во второй и третий раз — так же. Сие настолько понравилось Его Величеству, что он приказал нам дать еще один залп, и мы сделали это весьма успешно (выделено нами — thor)…».
В этом отрывке обращает на себя внимание отработанная тактика применения огнестрельного оружия — сперва делала залп легкая полковая артиллерия, входившая в штат полка, а потом мушкетеры, либо побатальонно, либо все разом. Строгая дисциплина и порядок, выработанные за почти неделю усиленной муштры, помноженной на опыт и усердие Гордона и его офицеров, позволили полку блеснуть своим искусством слаженной залповой пальбы даже на фоне отборных Стремянного стрелецкого приказа и выборных солдатских полков и заслужить благоволение самого государя.
В целом анализ тактики и характера обучения солдат, рейтар и драгун позволяет утверждать, что в русской армии «новой модели» стремились следовать требованиям быстро развивавшейся в Европе во 2-й пол. XVII в. линейной тактики.
Характерные черты военной революции в русском военном деле 2-й пол. XVII в. можно наблюдать не только в количественной и организационной сферах, но и в сфере технологической. Армия «новой модели» нуждалась в новых образцах оружия и амуниции, причем более или менее стандартизированных. Их нужно было или произвести в самой стране, или же закупить за границей, доставить в Россию и затем распределить по полкам. Без организации четко действующей службы снабжения, тыла все усилия по развертыванию армии «новой модели» становились бессмысленными. Пожалуй, создание во 2-й половине XVII в. такой службы был одним из наиболее очевидных и ярких признаков того, что Россия вышла на завершающую стадию военной революции.

Оружие и доспехи солдата согласно «Учению и хитрости…»
Из опыта Смоленской войны в Москве сделали правильные выводы относительно важности организации регулярного снабжения армии. Характерной чертой военной деятельности Алексея Михайловича стало не столько участие в сражениях, сколько создание необходимых условий для участия армии в них. На качества Тишайшего как незаурядного военного администратора обращал внимание И. Андреев. На наш взгляд, Алексей Михайлович, не имея военного образования, смог, тем не менее, интуитивно уловить одну из главнейших особенностей нового военного искусства и потому может быть поставлен на одну доску с такими выдающимися военными администраторами 2-й половины XVII в., как, например, маркиз Лувуа, причем в России этими вопросами всерьез озаботились значительно раньше, чем в Западной Европе.
Исходя из этого, в один ряд можно поставить как шаги, предпринимавшиеся правительством боярина Б.И. Морозова по упорядочиванию русских финансов и повышению поступлений в казну, так и мероприятия по развитию военной промышленности. Уже в 1646 г. в Голландию отправился тогда еще стольник И.Д. Милославский, который имел задание, помимо всего прочего, завербовать на русскую службу опытных оружейных мастеров. Спустя три года русское правительство передало Тульские заводы, основанные братьями Виниусами, в аренду П. Марселису и Т. Аккема, которые, как отмечал голландский историк Я. Велувенкамп, «…вдохнули в производство новую жизнь…», сумев расширить производство столь необходимого для русской армии оружия. Тогда же они построили завод по отливке пушечных ядер под Вологдой. Около 1650 немец Д. Бахерахт построил под Москвой первую пороховую мельницу по западноевропейскому образцу. Для координации работы как государственных, так и частных заводов по производству столь необходимого ручного огнестрельного оружия в 1647 г. был создан специальный Приказ Ствольного дела.
В последующие годы линия на поддержку отечественных оружейных заводов (пусть даже и под руководством иностранцев, главным образом голландцев и немцев) по производству оружия, получила дальнейшее развитие. П. Марселис и Т. Аккема, к примеру, продолжили активную деятельность по созданию новых заводов и расширению производства на уже имевшихся. В период с 1653 по 1663 гг. они построили 4 новых завода, известных в литературе как Каширские, в 1656 г. арендовали железоделательный завод, принадлежавший боярину И.Д. Милославскому, рядом с которым в 1659 г. построили еще одни завод. В 1669 г. П. Марселис получил разрешение на освоение олонецких рудных месторождений и постройку здесь железоделательных и медеплавильных заводов. Д. Бахерахт в 1653 г. получил разрешение на строительство на р. Яузе, рядом с Немецкой слободой, второй, каменной, пороховой мельницы, которая заработала на полную мощность в 1655 г.
Принятые меры позволили существенно поднять уровень производства оружия в России. Его выпуск значительно вырос в сравнение с предыдущим столетием. Так, только в 1647-1665 гг. из Ствольного приказа в войска было отпущено 31464 мушкета, 5317 карабинов, 4279 пар пистолетов; в 1668-1673 гг. тульские и каширские заводы по заказу казны произвели ручных гранат 154169, 25313 пушечных гранат, 42718 ядер, 40 тыс. пудов железа и чугуна. При этом необходимо отметить, что расширилась и номенклатура выпускаемого оружия и амуниции. В России был освоен выпуск и ремонт всех видов и типов оружия и амуниции, от фитильных, колесцовых и кремневых гладкоствольных и нарезных («винтованных») мушкетов и пистолетов, ручных гранат до тяжелой осадной артиллерии, ядер и гранат для нее, не говоря уже о доспехах и прочем снаряжении.
Особенно успешно развивалось в России производство артиллерийских орудий. Сам царь проявлял к этому делу немалый интерес. Об этом свидетельствует, к примеру, требование Алексеем Михайловичем русскому резиденту в Голландии И. Гебдону разыскать и доставить в Москву «…книгу ратную, по которой… какие пушки надобно ко всякой войне походной и обозной, и полковые, и городового взятья, и какими снастями лехкими возить их…». Вообще, 2-я пол. XVII в. стала временем серьезных перемен в русской артиллерии. Е.Е. Колосов в этой связи справедливо отмечал, что «…вопреки широко распространенному взгляду, эти годы вовсе не были периодом технического застоя и рутины. Напротив, они характерны большим количеством экспериментальных работ, отказом от устаревших пищалей различных калибров и созданием новых, более совершенных образцов артиллерийских орудий…». Многочисленные эксперименты, произведенные русскими и иностранными мастерами и специалистами под надзором главы Пушкарского приказа князя Ю.И. Ромодановского и самого Алексея Михайловича, способствовали принятию на вооружение русской армии новых, более совершенных образцов полевых и осадных орудий, причем были сделаны серьезные шаги на пути стандартизации выпускаемых Пушечным двором артиллерийских систем. В особенности это касалось легкой полковой артиллерии, массовый выпуск которой был налажен в начале 60-х гг. XVII в. Все это свидетельствовало о том огромном внимании, которое придавало русское правительство и командование повышению огневой мощи армии.
Однако, отмечая серьезные успехи правительства Алексея Михайловича в создании собственной военно-промышленной базы, все-таки полностью стать независимыми от Запада в этом вопросе не удалось. В силу ряда как объективных, так и субъективных обстоятельств производственные мощности имевшихся в России предприятий были явно недостаточны для того, чтобы полностью удовлетворить запросы армии на вооружение и снаряжение. В частности, это было обусловлено тем, что работа вододействующих машин на русских заводах сильно зависела от климата, и по этой причине реальный годовой цикл работы русских железоделательных заводов того времени не превышал 130 дней. Не стоит забывать и о том, что соседи России стремились ограничить доступ русских к новейшим военным технологиям и воспрепятствовать в той или иной мере найму специалистов на русскую службу.
Все это обусловило невозможность полного отказа от закупок за рубежом не только оружия, но и сырья и полуфабрикатов для его изготовления, хотя импорт оружия и амуниции обходился русской казне весьма недешево. Начатая еще при Михаиле Федоровиче практика закупки крупных партий холодного и огнестрельного оружия, доспехов и пр. была продолжена и при Алексее Михайловиче. Так, в преддверии войны с Речью Посполитой, в 1653 г. была достигнута договоренность с Голландией о закупке 20 тыс. мушкетов и 540 тонн пороха. В феврале 1654 г. Алексей Михайлович обращается к шведской королеве Христине с просьбой продать 20 тыс. мушкетов. Аналогичное письмо было направлено и датскому королю Фредерику II. Уже после начала войны, в 1655 г., в Голландии были закуплены еще 20 тыс. мушкетов. В дальнейшем объемы закупок оружия и амуниции за рубежом стремительно возрастали. Так, при посредничестве двух голландских купцов, Х. Свелленгребела и Й. ван Сведена, в 1659-1662 гг. в Россию было доставлено не менее 75 тыс. мушкетов, 30 тыс. карабинов, 34 тыс. пар пистолетов, не считая доспехов и холодного оружия.
Т.о., используя как собственные производственные мощности, так и крупномасштабные закупки за рубежом, московским властям в целом удалось решить проблему снабжения быстро растущей армии необходимым современным оружием и амуницией для ведения интенсивных боевых действий. Однако еще более сложной являлась другая проблема, которая в это же время с разной степенью успеха решалась ведущими европейскими державами, а именно обеспечение вооруженных сил провиантом, фуражом, лошадьми и, самое главное, новобранцами. Именно здесь нагляднее всего проявлялась готовность общества и государства идти на жертвы, порой серьезные, для обеспечения военного превосходства над потенциальными неприятелями.
Быстрый рост численности вооруженных сил, в особенности полков армии «новой модели» потребовал от московских властей искать новые способы их пополнения. Вербовка иностранных наемников в сколько-нибудь приемлемых масштабах, как показал опыт Смоленской войны, была исключена. Оставался единственный путь — набор русских людей и обучение их при помощи иностранных инструкторов.
Методика набора ратных людей для формирования и пополнения полков армии «новой модели» отрабатывалась в ходе войн постепенно. На первых порах за основу были взяты приемы комплектования полков, опробованные еще в начале 30-х гг. XVII в. Однако уже тогда было ясно, что при использовании такой системы пополнения армии людьми проблемы с набором неизбежны, поэтому в Москве решили прибегнуть к старой испытанной практике сбора даточных людей — прообразу будущих рекрутских наборов. Так, в 1658-1661 гг. проведенные 3 набора даточных дали 51 тыс. чел., 25830 руб. и 43423 четверти хлеба. В итоге началу 60-х гг. XVII в. набор новобранцев приобрел очертания, которые Г. Котошихин характеризовал следующим образом. Говоря о наборе в рейтарские полки, он писал, что в них «…выбирают из жилцов, из дворян городовых и из дворянских детей недорослей, и из детей боярских, которые малопоместные и беспоместные и царским жалованьем, денежным и поместным, не верстаны; так же и из волных людей прибирают, кто в той службе быти похочет… Да в рейтары ж емлют с патриарха, с митрополитов, с архиепископов и епископов и с монастырей, так же з бояр и околничих, и думных людей, которые останутся на Москве, а нигде не на службе и не в посолствах, так же с столников и з дворян московских и з городовых, которые от службы отставлены за старостью и за болезнью, и за увечье и служеб им самим служити не мочно, так же и со вдов и з девок, за которыми есть крестьяне, смотря на вотчинам и по поместьям, сколко за которым вотчинником и помещиком крестьян; со 100 крестьянских дворов рейтар, монастырской служка или холоп».
Аналогично обстояло дело и с набором в солдатские полки. «…И в те полки прибирают салдат из волных людей и из Украинных и ис Понизовых городов, детей боярских, малопоместных и беспоместных; также и с патриарших и с властелинских, и с монастырских, и з боярских, и всякого чину людей, с вотчинниковых и с помещиковых со ста крестьянских дворов салдат. Да в салдаты ж емлют всего Московского государства с крестьян, кроме Сибири и Астарахани и Казани; у которого отца два или три сына, или три брата живут вместе, а не порознь, и от трех емлют одного человека; а у кого четыре сына или четыре брата вместе, и от таких емлют двух; а у кого сыщется болши, и от таких болши и возмут; а у кого два или три сына или братья малые и службы не емлют до тех мест, доколе не подрастут и годятца были в службу. Да ис Казани и ис Понизовых городов собирают татар и черемису и мордву со 100 ж дворов».

Осада Риги войском Алексея Михайловича в 1656 г.
Качество пополнения, набираемого таким способом, было далеко не всегда таким, какое нужно было для армии. Если новобранцы из казаков, дворян и детей боярских, как правило, были годны к службе, то этого нельзя было сказать о многих даточных. Вряд ли помещики и другие землевладельцы с радостью отдавали в армию своих лучших, «ражих» мужиков. Так, князь Б.А. Репнин, характеризуя качество своих солдат и рейтар, писал, что если дворяне, дети боярские, новокрещены, казаки «добры», только что «бедны, малоконны или бесконны», то даточные намного хуже. «Да в рейтары же збираны при боярине и воеводе при князе Иване Андреевиче Хованском посадские люди и чюхна, — жаловался Репнин, — и те худы и в пешей строй по нуже пригодятца, потому что многие стары и дряхлы… А даточных воеводы присылают в полк старых, и увечных и худых людей и молодых робят…».
Естественно, что если для казаков, стрельцов, детей боярских и дворян военная служба была привычна, и они знали, что это их обязанность, то и относились они к ней более ответственно. О даточных, выбранных зачастую по принципу «на тебе, небоже, что нам негоже», этого сказать было никак нельзя. Служба для них была в тягость, и они только умножали число дезертиров, заболевших и умерших от тягот военной жизни. Вот и получается, что пока полки армии «новой модели» комплектовались служилыми людьми, они обладали большей боеспособностью, чем когда в них все больше и больше стало появляться даточных. Этим частично объясняется успешный ход первой польской войны (1654-1656 гг.) и нередкие неудачи во время второй польской войны, особенно в конце 50-х — начале 60-х гг. Тем не менее, привлечение к военной службе тяглых чинов позволило более или менее удовлетворительно разрешить проблему не только пополнения уже существующих частей и подразделений, но и постоянно наращивать численность армии. При этом стоит отметить, что Россия первой из европейских государств полностью отказалась от найма иностранных наемников, комплектуя армию только своими уроженцами. Эта особенность русского войска 2-й пол. XVII в. была замечена иностранцами, которые, кстати говоря, полагали такие действия московских властей ошибочными. Однако, как показали дальнейшие события, именно такой подход к комплектованию армии оказался наиболее прогрессивным.
Однако не только обеспечение растущей армии новобранцами представлял для правительства Алексея Михайловича и его сын Федора серьезную проблему. Еще более сложными оказались финансовые вопросы. Содержание вооруженных сил в целом и армии «новой модели» в частности для Российского государства во 2-й пол. XVII в. было серьезнейшей проблемой. Отмечавшаяся выше неразвитость экономики, товарно-денежных отношений, отсутствие постоянного и значительного по объему притока драгоценных металлов создавали большие трудности покрытии непрерывно растущих военных расходов. Рать, по образному выражению В.О. Ключевского, действительно заедала казну. За пятьдесят лет, с 20-х по начало 80-х гг. XVII в., только прямые военные расходы выросли с 275 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, составив половину всех государственных доходов. Во время же войны (а при Алексее Михайловиче и его сыне Федоре войны, начиная с 1654 г., шли почти без перерыва), они еще более возрастали. Достаточно указать, что по расчетам московских дьяков, сделанным в начале 60-х гг., жалование только (! — thor) 2325 начальным людям солдатских и рейтарских полков составляло на год от 254255 рублей 13 алтын 2 денег до 248250 рублей, а 74500 рядовым солдатам и рейтарам — 799625 рублей. Рост численности армии и ее качественная перестройка стоили дорого, очень дорого — по мнению В.О. Ключевского, увеличение численности вооруженных сил за 50 лет в 2 с лишним раза привело к росту прямых военных расходов более чем втрое.
Стремление соответствовать возросшим требованиям к уровню развития военного дела оказалось весьма дорогостоящим делом, практически неподъемным для Российского государства во 2-й половине XVII в. Налоговая система Российского государства оказалась неспособна выдерживать такую нагрузку и не справлялась с содержанием резко выросшей армии. Даже многочисленные ухищрения властей — начиная от создания многочисленных государственных монополий, введения косвенных налогов, массовой чеканки медных денег, взимания чрезвычайных налогов (так, в 1654-1680 гг. по разу собирали 20-ю и 15-ю деньгу, пять раз собирали 10-ю деньгу, и дважды 5-ю деньгу) не спасали ситуацию.

Осада Ляхович русскими войсками в 1660 г. Гравюра
Невозможность собрать необходимые суммы на содержание армии вынуждало правительство идти на замену денежных налогов натуральными — провиантом и фуражом. Но и это решение не принесло желаемого облегчения. Страна буквально изнемогала под давлением растущих налогов. Осознание необходимости иметь значительную регулярную армию находилось в явном противоречии с возможностями государства и общества. Именно этим и объясняется стремление властей найти наименее затратный способ содержания вооруженных сил.
В целях снижения военных расходов правительство использовало несколько способов. Во-первых, оно шло на периодическое сокращение численности полков армии «новой модели» за счет роспуска по домам части служилых людей на «прокорм». Так, в марте 1663 г. московский выборный солдатский полк А. Шепелева имел налицо 416 солдат и в Смоленске 1055, тогда как по домам было отпущено 707 солдат — т.е. почти 1/3 полка находилась в отпуске. Во-вторых, в целях экономии власти вернулись к опробованной еще при Михаиле Федоровиче системе определенной градации в выплате жалования начальным людям и солдатам новых полков в зависимости от характера службы. Полный оклад получали только те из них, которые действительно несли полевую службу, тогда как те, которые находились на «городовой службе», получали сокращенное жалование, а заштатные — и того меньше. К примеру, в начале 60-х гг. XVII в. денежный оклад 74500 рядовым солдатам, рейтарам, гусарам, копейщикам и драгунам составлял по 1-й статье ежегодно 799625 рублей, а по 2-й статье — 555705 рублей. Разница же в окладе начальных людей по 1-й и по 7-й статьям составляла почти 6 тыс. рублей — от 23404 рублей с полтиной до 17942 руб. с полтиной. Кроме того, в практику вошли разного рода вычеты из жалования, особенно касавшиеся начальных людей, имевших поместья.
Однако все эти меры носили компромиссный характер и, как правило, либо не давали никакого эффекта, либо улучшали ситуацию на короткое время. Пойти на снижение уровня военного потенциала в Москве не могли, учитывая крайне сложную внешнеполитическую ситуацию — как уже было отмечено выше, начав в 1654 г. войну с Речью Посполитой за Украину, Россия вступила в долгий период практически непрерывных войн практически по всему периметру своих границ. Необходимо было иное решение, и оно было найдено на пути возвращения к «старине». Стремясь сократить расходы на содержание войск, правительство еще в ходе войны с Речью Посполитой взяло курс на замену денежного и прочего казенного довольствия на испомещение солдат, драгун и рейтар, превращение их в мелких землевладельцев.
Естественно, что испомещенные служилые люди, вынужденные со своих небольших участков снаряжаться в поход по старому обычаю, терпели большие лишения в случае, если поход затягивался и они не могли вернуться домой для пополнения своих запасов. Отсюда и челобитные ратных людей с просьбой отпустить их домой на пополнение «домовых запасов», и рост дезертирства (одной из причин которого как раз и была недостаточность или полное отсутствие жалования). Однако, судя по всему, иного выхода у Москвы не было, и потому этот способ содержания войск постепенно получил широкое распространение.
Сама по себе идея поселенного войска была неплоха. При наличии постоянного ядра из начальных людей и урядников (которые, как отмечал Н.П. Михневич, были подлинной душой армии) привести территориальные полки в боеспособное состояние было достаточно легко, тем более если учесть, что регулярство поддерживалось длительными походами и многочисленными большими и малыми боями и сражениями с неприятелем, когда новоприбранные служилые и даточные люди набирались боевого опыта и умения сражаться. В мирное же время регулярные учебные сборы способствовали сохранению способствовали сохранению полученных навыков военного дела и esprit d’corps . В экономическом отношении такая армия была значительно дешевле, чем армия, содержавшаяся в одинаковых штатах и в мирное, и в военное время. В то же время поселенная армия отличалась более высокой боеспособностью, нежели прежняя поместная «нестройная» милиция.
Испомещение значительной части армии «новой модели» стало своеобразным завершением почти полувековой истории военных преобразований, начавшихся при Михаиле Федоровиче. Подводя общий итог результатам военного строительства при первых Романовых, можно с уверенностью сказать, что в эту эпоху опытным путем русским удалось выработать достаточно эффективную, стоявшую на уровне требований своего времени, а в кое в чем даже и опережавшую их, военную машину. Она сочетала в себе элементы старой московской традиции, опыт столкновений с польско-литовской армией и целый ряд черт, присущих для потенциально наиболее перспективной на тот момент протестантской военной школы. Все эти компоненты взаимно дополняли и компенсировали недостатки друг друга. Новая военная машина, универсальная по своей сущности и хорошо приспособленная к специфическим условиям восточноевропейского ТВД, прошла успешную проверку в войнах 2-й половины XVII в., в которых пришлось принять участие России. И если эти войны (с Речью Посполитой 1654-1667 гг., русско-шведская 1656-1661 гг. и русско-крымско-турецкая 1672-1681 гг.) и не закончились триумфом русского оружия, то причины этого нужно искать не в дефектах армии «новой модели», а в другом. С одной стороны, и Речь Посполитая, и Крым, и Турция оставались в это время еще очень серьезными и сильными противниками. Это же, правда, несколько в меньшей степени относится и к Швеции. С другой стороны, из-за просчетов дипломатии русским войскам приходилось практически все время воевать, по меньшей мере, на два, а то и на три фронта. Неспокойно было и внутри страны, не говоря уже об Украине, где в это время полыхала ожесточенная гражданская война, не случайно получившая характерное прозвище — «Руина», и стремление поддержать «своих» гетманов неизбежно влекло за собой активное участие русских войск в этом конфликте. Наконец, на нерешительном характере войн сказалось и несоответствие уровней развития политической и военной сфер жизни русского общества того времени и социально-экономической и культурной. Если в первых Россия не уступала передовым странам Западной Европы, то во вторых было заметно определенное отставание.
Попытка перенять новейшие достижения европейской военной техники, тактики и стратегии без коренных перемен в остальных сферах жизни общества и государства не могла привести к позитивным конечным результатам. Столкнувшись со множеством неразрешимых на то время в рамках прежней традиции проблем, прежде всего финансовых и экономических, московские власти были вынуждены пойти на компромисс. Компромиссные же решения редко когда имеют длительный положительный эффект. Так оказалось и в этом случае. Стоило только правительству в конце 80-х — начале 90-х гг. XVII в. ослабить внимание к вопросам военного строительства, и непрочные еще основания новой военной системы стали быстро разрушаться, а боеспособность армии, втянутой во внутриполитические интриги, стала падать. Остановка в развитии военной сферы, особенно в последней четверти XVII в., когда перемены в военном деле шли одна за другой, была чревата серьезными неприятностями. Это наглядно подтвердили состоявшиеся в 1695-1696 гг. Азовские походы Петра Алексеевича, когда для овладения небольшой турецкой крепостью на окраине Османской империи потребовалось организовать два больших похода и мобилизовать значительные по тем временам силы. Результат же далеко не соответствовал затратам.

Н. Дмитриев-Оренбургский. Московское восстание 1682 г.
Печальный опыт Азовских походов и сомнения в политической благонадежности старой армии, особенно усилившиеся после дела полковника Цыклера в 1697 г. и очередного стрелецкого бунта в 1698 г. побудили Петра I приступить к переформированию вооруженных сил. И здесь необходимо отметить, что ни о каком совершенном Петром коренном перевороте в деле военного строительства не может быть и речи. Все самые главные, действительно революционные новшества были введены в практику русского военного строительства его дедом и отцом. В каком-то смысле петровские военные преобразования, особенно в первое время, были шагом назад. Вместо того чтобы попытаться реанимировать старую систему, хорошо себя зарекомендовавшую в предыдущих войнах, царь отказался от нее. Старая армия была использована в качестве своеобразного резервуара живой силы для комплектования «новоприборных» солдатских и драгунских полков, для несения гарнизонной службы и на второстепенных направлениях боевых действий. Главный же упор в своей деятельности Петр сделал на формирование «своей» армии.

В.И. Суриков Утро стрелецкой казни
В этом нет ничего необычного. Вынеся из общения с иностранцами идею об отсталости России от Европы, Петр I поставил перед собой задачу в кратчайшие сроки преодолеть ее. Государственная машина, организованная на началах регулярности, военной дисциплины и порядка, казалась ему оптимальным орудием для решения этой проблемы, поскольку она, управляемая неограниченной волей монарха, могла осуществить мобилизацию ресурсов страны для совершения рывка вслед за ушедшим вперед Западом. В итоге государство полностью подчинило себе общество, а государственные интересы, отождествляемые с интересами монарха и его ближайшего окружения — общественные интересы и интересы отдельного человека. «Петровские реформы — это еще и апофеоз этатизма, не оставляющего практически и до сих пор места для иных (негосударственных) форм общественного существования…» — с такой оценкой преобразований 1-й четверти XVIII в. трудно не согласиться.
В таком государстве, где централизаторская идея и идея абсолютной власти монарха была доведена до логического завершения, старая армия, продолжавшая сочетать в себе начала регулярные и иррегулярные, более соответствовавшая периоду относительно слабой монархии, вынужденной считаться с мнением «земли», была непригодна. Царь нуждался в надежном инструменте реализации своих планов, как внутри-, так и внешнеполитических, тем более что его политика насильственной, ускоренной европеизации России была неоднозначно воспринята во всех слоях русского общества, неотъемлемой частью которого и была старая армия. Ему же нужна была собственная армия, полностью оторванная от общества и преданная только ему одному (подобно османским капыкулу). Поэтому отказ от сохранения старой армии, ассоциировавшейся в сознании Петра с ненавистной ему московской «стариной», и переход к созданию новой, с «чистого листа», был вполне логичен.
Отклонение Петра от модели строительства вооруженных сил, выработанной в 2-й половине XVII в., достаточно дорого обошлось России. Не говоря об экономических, социальных и политических последствиях петровских преобразований, вызывающих ожесточенные споры и неоднозначные оценки и по сей день, даже в военном плане эффективность петровской армии вызывает определенные вопросы. Да, шведская армия, считавшаяся в Европе одной из сильнейших, была разгромлена. Однако Прутский поход 1711 г. показал, что даже для полтавских ветеранов турецко-татарская армия явилась крепким орешком. Петровская армия, как оказалось, была оптимизирована для ведения войны против такого же регулярного противника. Продолжавшийся Петром до самого конца своего правления поиск наилучшей формы организации вооруженных сил позволяет утверждать, что он сам был не до конца удовлетворен итогами своих преобразований в военной сфере. Этот поиск был продолжен и после его смерти. Вплоть до конца XVIII в. преемники царя-реформатора продолжали с разной степенью интенсивности заниматься вопросами военного строительства и совершенствования русской армии и флота, стремясь поддержать должный уровень милитаризма, обеспечивавший прочные позиции в межгосударственной конкуренции. Процесс приспособления европейского опыта военного строительства к конкретным русским условиям занял последние три четверти XVIII столетия. Хотя полного возврата к той модели, которая была отработана во 2-й половине XVII в. и, на наш взгляд, для русских условий той эпохи представляется оптимальной, и не произошло — слишком многое изменилось с того времени, тем не менее, отдельные ее элементы были сохранены и получили дальнейшее развитие. Это касается активного использования русскими военачальниками в XVIII в. иррегулярной легкой конницы азиатского типа — казаков, калмыков, башкир, формирование поселенных войск-ландмилиции на степных границах России, а в начале XIX в. — создание ополчения и военных поселений. Многочисленная, хорошо обученная и вооруженная, отличавшаяся высоким моральным духом, регулярная русская армия XVIII в. вынудила иностранных политиков считаться с мнением России, которая стала полноправным членом «европейского концерта». Военная революция в России, в отличие от Османской империи и Речи Посполитой, успешно свершилась и сделала ее действительно великой державой, империей, игравшей в пресловутом «европейском концерте» далеко не последнюю роль.
От Руси до Московии
Русская армия в XV-XVI веке
Царь Иоанн IV Грозный
Процесс объединения русских земель вокруг Московского княжества, начавшийся в 14 веке, завершился в конце 15 - начале 16 вв. образованием централизованного государства. Это событие было подготовлено экономическими и политическими условиями. К середине 15 в. Великий князь Московский являлся самым могущественным правителем Восточной Руси. В княжение Ивана III (1462-1505) были присоединены к Москве Ярославское и Ростовское княжества, ликвидирована самостоятельность Новгорода, а затем и Тверского княжества. Объединение русских земель происходило в сложных внешнеполитических условиях. Продолжала требовать дань Золотая Орда, а выделившиеся из её состава ханства (Крымское, Казанское и Астраханское), тревожили опустошительными набегами окраины Московского государства. Цепко держалось за смоленские, украинские и белорусские земли великое княжество Литовское. Ливонский орден преграждал выход к Балтийскому морю. Русское государство оказалось в сложном узле международных противоречий.
Важную роль в дальнейшем укреплении русского централизованного государства сыграл Иван IV (1530-1584). Он в 1547 году принял титул царя, что знаменовало переход к новому этапу в развитии государства. Если великий князь был старшим среди князей, то царь становился над всеми князьями, что привело к возникновению самодержавия.
Образование и укрепление русского централизованного государства требовало проведения активной внешней политики. Это, в свою очередь, выдвигало неотложную задачу создания достаточно мощных вооруженных сил, чтобы надежно защитить границы страны и добиться возвращения находившихся под властью других стран исконно русских территорий. Сильная армия нужна была и для решения задач внутренней политики – подавления боярской оппозиции и народных восстаний. И такие вооруженные силы были созданы.
Ядром укомплектования русского войска в XV в. оставался великокняжеский двор, состоявший из мелких служилых людей (бояр и «детей боярских»). С течением времени великокняжеский двор значительно увеличился и превратился в великокняжеское войско. Второй составной частью являлись «городовые полки». Они набирались из горожан. Их основу составляла «московская рать», т.е. войска, укомплектованные ремесленниками, купцами и другими социальными слоями жителей Москвы. Третьей частью была «рубленная рать», т.е. рать собранная с определенного количества сох. Эта рать называлась также «посошной ратью», и ее выставляло сельское население по установленному расчету. Четвертой составной частью русского войска были казачьи войска. Уже со второй половины XIV в. упоминаются казачьи сторожи, которые несли службу наблюдения по Хопру и Дону, Быстрой и Тихой Сосне и др. рекам. Возникла линия укрепленных городов, обороняемая «городовыми казаками». Сторожевую службу несли станичные казаки. Для станичной службы выставлялся один воин с 20 дворов. Летописи отмечали также «засечную стражу», оборонявшую пограничные укрепления. Пятой составной частью войска были наемные отряды иноземцев. В это время на договорных началах военную службу несли «служилые татарские царевичи», «ордынские князья», «литовские князья» и др. со своими дружинниками.

Конница XVI век
Русское войско этого периода имело два основных рода войск: «кованую рать» и «судовую рать». Кованая рать - это конница, укомплектованная хорошо вооруженными всадниками. Судовая рать - пехота, большую часть которой составляла «рубленая рать». Пехота именовалась судовой ратью потому, что она, как правило, совершала поход на судах по рекам.
Организация войска для похода и боя представляла собой деление на полки: сторожевой (передовой), большой, правой и левой руки и засадный (запасной). Командовали полками полковые воеводы, которых назначал великий московский князь. На каждый полк назначалось несколько воевод, один из которых был главным. Назначение воевод происходило не на основе учета их военных качеств, а по знатности происхождения (местничество). Общее командование «государь всея Руси» оставлял за собой и осуществлял лично или назначал большого воеводу.
Касаясь проблемы изменения в системе комплектования и организации русского войска в XVI в., следует заметить, что возникшая в XV в. поместная система комплектования войска сложилась окончательно и была закреплена указами Ивана Грозного. В 1555 г. было издано «Уложение к службе», которое уравнивало вотчины и поместья, объявляло воинскую службу вотчинников и дворян обязательной и наследственной, определяло их служебные обязанности в зависимости от размера земельных владений. За службу давался земельный надел размером от 150 до 3 тыс. га. Кроме земельного надела полагалось денежное содержание в зависимости от разряда – от 4 руб. до 1200 руб., которое выдавалось им при выступлении в поход или через два года на третий. С каждых 100 четей (около 50 десятин) доброй земли должен был выступить в поход один воин «на коне и в доспехе полном», а в дальний поход – «о дву конь». Поместье переходило от отца к сыну. Когда ему исполнялось 15 лет, он записывался в «десятню» (служилый список) и становился «новоком». Для учета и проверки служилых дворян периодически проводились смотры. Такой порядок распространился и на городовых казаков, которые стали получать поместья на границах.

Воины пограничья XVI век
К поместным войскам относилась и татарская знать, перешедшая на службу к московскому государю и получившая от него поместья. Поместное войско являлось основой русского войска и составляло основной род войск - конницу. Введение поместной системы позволило значительно увеличить численность войск. В случае необходимости московский государь мог мобилизовать от 80 до 100 тыс. конников. Лучшей частью поместной конницы был царский полк (до 20 тыс. чел.). Второй составной частью русского войска XVI в. была пехота, ее составляли: пешие городовые казаки, посошные люди (посоха), стрельцы. Городовые казаки получают развитие как новый род войск при Иване IV. Они набирались, как и стрельцы, «из вольных охочих людей». Первые упоминания о них относятся к середине XV в. Из городовых казаков составлялись гарнизоны, главным образом, пограничных городов и укрепленных пунктов засечной черты, где они несли пограничную службу. Городовые казаки разделялись на конных и пеших. Пешие казаки, по существу, не отличались от положения стрельцов. Организационно они делились на приборы (отряды) по 500 чел. Многие из них за свою службу получали поместья, становясь поместными казаками. Городовых казаков нельзя смешивать с казаками, жившими в пограничных степях. Посошная рать (посошные люди) собирались в определенном количестве от сохи - так называлась единица податного обложения. Зачастую в посошную рать включали по одному человеку от 50, 20, 10 и даже 5 или 3 дворов. Выставлялись посошные люди конными и пешими в возрасте от 25 до 40 лет. Они отличались крепким здоровьем, умели хорошо стрелять из луков и пищалей и ходить на лыжах. Силами посошных людей выполнялись военно-инженерные работы по устройству дорог и мостов, осуществлялся подвоз боеприпасов и продовольствия, перевозились артиллерийские орудия и производилась их установка.
«Стрелецкие полки» организационно появляются в 1550 г., когда был организован отряд численностью в 3 тыс. чел. Отряд сводился в шесть «статей» по 500 чел. Стрельцы набирались из «вольных людей». За службу они получали жалованье (нерегулярно) и участки земли вблизи городов, за которые обязаны были служить пожизненно и наследственно. Жили стрельцы в особых слободах, занимались торговлей и ремеслом. Стрельцы обучались строю и стрельбе из пищали. Из лучших стрельцов был сформирован особый конный отряд. Эти стрельцы назывались стремянными и несли охрану царского дворца и обычно сопровождали государя. В конце XVI в. насчитывалось до 12 тыс. стрельцов. Из них: 2 тыс. стремянных; 5 тыс. московских пеших; 5 тыс. городовых. Стрельцы в мирное время состояли из приказов по 500 чел. в каждом, а последние из сотен, полусотен, десятков.
Стрельцы являлись первым на Руси постоянным, но еще не регулярным войском. Имея хорошую боевую выучку, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, они представляли собой наиболее подготовленную часть вооруженных сил русского государства. Стрелецкое войско было ядром пехоты во внешних войнах. Внутри государства их использовали также.

Московская артиллерия XVII век
Третьей составной частью русского войска в XVI в. был «наряд», т.е. артиллерия. «Наряд» выделялся уже в самостоятельный род войск. Правительство поощряло службу в наряде пушкарей и затинщиков, обладающих необходимыми знаниями и мастерством. У них были льготы. Набирались они, главным образом, из вольных ремесленников. Их служба была пожизненной (постоянное войско) и передавалась по наследству: отец передавал знания сыну. Пушкари, обслуживавшие орудия, и все служившие при наряде (артиллерии) получали хлебное и денежное жалованье, а иногда и земельные наделы. Жили они, так же как и стрельцы, в городах, в пушкарских слободах, имели право заниматься ремеслом. Артиллерия делилась на крепостную, предназначенную для защиты городов, осадную - стенобитную и полевую со средними и легкими пушками.
Четвертым элементом был «Гуляй город» (подвижное полевое укрепление). По сути, специально обученный личный состав «гуляй-города» являлся зачатком инженерных войск. Укрытие «гуляй-город» - это легкое подвижное защитное средство (летом - на колесах, а зимой - на полозьях). Оно состояло из деревянных щитов, через бойницы которых стрельцы и пушкари вели огонь. По сути, в русском военном искусстве появилось инженерное оборудование поля боя, состоящее из деревянного щитового прикрытия.
Таким образом, в XVI в. вооруженные силы Руси состояли из поместной конницы, стрельцов, городовых казаков, ополчения «даточных людей», казаков, живших в степях. На случай войны царь мог рассчитывать на 200 тыс. человек. В системе военного управления общее руководство войсками осуществлял царь. Непосредственное управление отдельными вопросами строительства и подготовки вооруженных сил было сосредоточено в приказах. Высшим органом военного управления являлся Разрядный приказ. Кроме того, стрелецкий приказ ведал стрельцами, пушкарский - артиллерией, бронный - изготовлением оружия.
Военные реформы, осуществленные правительством Ивана IV, отвечали сложившимся условиям борьбы с внешним противником. Они позволили ему иметь достаточно дисциплинированную и многочисленную национальную армию, в том числе постоянное пехотное войско.
Габриель Цобехия
Как такового еще и не было в помине. Защищаться от оружия человеку пришлось с момента возникновения самого оружия. Одновременно с развитием оружия для наступления стало развиваться вооружение для защиты: защиты человека, его тела от острых зубов, когтей и рогов животных. Тогда это была примитивная защита, изготовленная из подручных средств: звериные шкуры, те же рога и т.п. Защитная одежда была легкой, что обеспечивало охотнику хорошую мобильность, не мешало быстро бегать и быть ловким и увертливым в поединке со зверем. Прежде чем стать полноценным рыцарским латником, закрывающим полностью все тело человека, защитная одежда прошла довольно-таки длинный путь развития.
Для защиты от стрел, а также от скользящих случайных ударов предназначался боевой доспех, который даже при пробитии снижал тяжесть получаемых травм. Шанс на выживание повышался, только и всего.
Тяжелая кавалерийская шпага с корзинчатой рукоятью (по английской терминологии «корзинчатый меч») 1600–1625 гг. Длина 100 см. Вес 1729 г. Англия. Метрополитен музей, Нью-Йорк.
Если мы внимательно рассмотрим массу доспехов, то увидим, что в течение нескольких столетий она не изменялась. В XIII веке – кольчужная защита, в XIV веке – «переходный» доспех, XV век – полный латник, XVI – XVII века – «трёхчетвертной» доспех, все они весили одинаково: 30 – 40 килограммов. Этот вес распределялся по всему телу и был по силе равен среднему воину (сравните, экипировка современного солдата – 40 кг, солдата из элитных подразделений типа ВДВ – до 90 кг). Из этого ряда выбивался лишь турнирный доспех, предназначенный не для защиты от случайных ударов или снижения тяжести травм, а для полного предотвращения их даже при ударе копьём «тараном» в грудь. Естественно, что эти доспехи не применялись в бою. Ношение доспеха длительное время выматывало воина, а в жару он мог получить тепловой удар. Поэтому зачастую воины старались хотя бы частично освободиться от своего защитного снаряжения, даже осознавая, что они могут быть захвачены без доспехов противником врасплох, ведь такое случалось часто. Иногда снимали доспехи также при переправе или бегстве, а иногда и срезали для спасения собственной жизни: броня дорога, а жизнь дороже!

Рукоять «корзинчатого меча» 1600–1625 гг. Англия. Метрополитен музей, Нью-Йорк.
Неповоротливость и неуклюжесть воина в доспехах – не более чем миф. Ведь боевой латный доспех, даже очень тяжёлый, позволял надевшему его воину совершать в полной мере любые, необходимые для боя движения, а некоторые средневековые источники описывают и выполнение воинами акробатических трюков. Достаточно побывать в Королевском Арсенале в Лидсе в Англии на анимации рыцарского поединка воинов, одетых в гринвичские доспехи, чтобы увидеть, что они и прыгать могут, и толкать друг друга ногами в грудь, и бить в лицо не клинком, а рукояткой меча. Однако при активных действиях воин в доспехе достаточно быстро уставал, так что для ношения доспеха нужна была отличная физическая подготовка. Кстати, потеют и устают и аниматоры в Лидсе…
Особые требования предъявлялись европейскими лучниками к оплечьям, которые мешают стрельбе из лука, замедляя быстроту движений рук. Не всякая конструкция оплечья позволяет поднять руки вверх полностью или развести их в стороны с малыми затратами энергии. В Азии применяли оплечья куячной, ламинарной или ламеллярной конструкции – с плеч свободно свисали гибкие листы, в этом случае подвижность улучшалась за счет хорошей защиты, ведь зона подмышек ничем не прикрывалась.
В Европе начали с изготовления комплектов достаточно лёгких кольчужных доспехов, а затем последовательно улучшали их защитные свойства. Именно это стало началом соревнования между наступательным и защитным вооружением. Только повсеместное применение огнестрельного оружия закончило это соревнование. За пределами Европы мастера по изготовлению доспехов вообще не старались добиться абсолютной защиты. Сохранялся щит, активно принимающий удары противника и защищающий от стрел. В Европе же к XVI веку щит вышел из употребления, поскольку новая техника фехтования на мечах позволяла в ближнем бою обходиться без него, непосредственно на кирасу стали принимать удар копья, а латнику стрелы уже не страшны.
Итак, вместо защиты всего тела воина сплошными пластинами, характерной для Европы с XV века, особо уязвимые места и жизненно важные органы стала защищать более мощная броня, а остальные – броня подвижная и лёгкая.
Историография Англии предлагает на эту тему много книг – просто глаза разбегаются, да это и понятно – это их , биография их страны. Многие актуальные и сейчас работы написаны в прошлом веке и сами англичане ссылаются на них до сих пор! Но начнем с предыстории. И вот что мы узнаем.

Доспехи английского пехотинца-пикинера XVII в.
Оказывается, в XVI веке, например, в 1591 году, от английских лучников (а ведь еще применялись лучники!) требовали, чтобы те носили прикрытый яркой тканью доспех – «боевой дублет», из стеганой ткани, либо подбоем металлическими пластинами. Историки Д. Паддок и Д. Эдж объясняют это тем, что у огнестрельного оружия были очевидные успехи, но качество пороха все еще было достаточно низким. Поэтому выстрел из мушкета был действенен на расстоянии не более 90 м. Соответствующим вооружению того времени было и облачение всадников.
В средневековой Германии рейтары Генриха VIII были вооружены копьем длиной 3,5 метра, а, кроме того, каждый имел на вооружении еще и два пистолета с колесцовыми замками. Пистолет имел довольно-таки солидный вес и составлял примерно 3 кг, имел полуметровую длину, пуля весила 30 граммов, а вот дальность поражения составляла около 45 м. Пистолетов бывало и больше двух, если на то имелась такая возможность. И тогда их засовывали за голенища сапог и еще парочку затыкали за пояс. Но наука движется вперед и качество пороха повысилось. Пистолеты и мушкеты стали эффективней против прежних средств защиты, уже порядком устаревших. Более совершенные доспехи, которые поступали после изготовления в распоряжение рейтаров, теперь проверялись на прочность и качество посредством пуль. Проверялся на уязвимость весь комплект, особенно шлем.
Доспешный гарнитур «Орел», усиленный на груди дополнительной пластиной, обеспечивающий дополнительную пуленепробиваемость, был у эрцгерцога Фердинада Тирольского. Но такие доспехи наряду со своим неоценимым качеством – безопасностью, имели и большой недостаток − они были тяжелы, что, безусловно, сказывалось на подвижности воина.
Параллельно, в Англии, шел процесс приведения доспехов к определенному единому образцу, поскольку шли изменения в организации системы закупок вооружения для армии. Согласно закону 1558 года, теперь на население возлагалась обязанность вооружать армию. Величина вклада зависела от величины дохода в годовом исчислении. Так, «джентльмен», имевший доход в год 1000 фунтов стерлингов или больше, обязан был снарядить шесть лошадей для армии (из них три должны быть со сбруей), а для всадника еще и доспехи; 10 лошадей для легкой конницы (с доспехами и сбруей). Для пехоты: 40 обычных комплектов доспехов и 40 облегченного, германского образца: 40 пик, 30 луков (к каждому 24 стрелы); 30 легких железных шлемов, 20 алебард или копий типа «билл»; 20 аркебуз; и двадцать шлемов типа морион. Остальные покупали вооружение по своим доходам. Поэтому мастера-оружейники стали массово ковать комплекты одинаковых доспехов. Это привело к «поточному производству» облачения и существенно облегчило их выпуск. Любопытно, что вывозить все это оружие в другие государства было строго запрещено.
Тяжеловооруженная конница носила кирасу, набедренник до середины бедра, полностью защищались руки, а шлем морион имел гребень и металлические нащечники, которые шнурками завязывались под подбородком. Вооружены они были тяжелым копьем без щитка и мечом. Легковооруженная конница носила кольчужную рубашку и все тот же морион, а на ногах очень высокие кавалерийские сапоги из толстой кожи, такие же, как у тяжелой кавалерии. Вооружены они были мечом и легким копьем. В Норвиче легкая кавалерия в 1584 году возила в кобурах у седла по два пистолета. Для защиты применяли бригандину или жак – куртку с подбоем из горизонтальных металлических пластинок.
Бригандина XVI в. Скорее всего, сделана в Италии, около 1570 – 1580 гг. Вес 10615 г. Вид снаружи и изнутри. Музей искусств Филадельфии.
Ирландские пикинеры были защищены кирасой, полностью прикрывались руки, голова закрывалась морионом с гребнем, они не носили набедренники. На вооружении была длинная «арабская пика», (около 6 м длиной), как, тяжелая шпага и короткий кинжал.
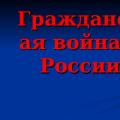 Презентация - гражданская война в россии Гражданская война в истории человечества презентация
Презентация - гражданская война в россии Гражданская война в истории человечества презентация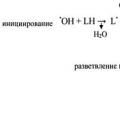 Продукты перекисного окисления липидов
Продукты перекисного окисления липидов Папка передвижка лексическая тема «Зима
Папка передвижка лексическая тема «Зима