Наш сибирский астафьев. Природа и человек в современной отечественной прозе (На примере повести Астафьева «Царь-рыба» и Распутина «Пожар»)
Мазуров К.В., к.ф.н. Мазурова Н.А.,
Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета, Россия
Образ музыки в «Последнем поклоне» В. П. Астафьева
Предметом данного исследования является рассказ «Далёкая и близкая сказка»,открывающий повествование в рассказах В. П. Астафьева «Последний поклон». В некоторых изданиях Астафьев, определяя положение этого рассказа, даёт ему подзаголовок «Вместо предисловия», то есть имеющий значение предисловия, находящийся перед основным словом и, следовательно, являющийся ключом ко всему произведению, камертоном,настраивающим на восприятие последующих глав. Это значениеопределяется, прежде всего,центральным образом рассказа – образом музыки.
С образом музыки связаны две основные идеи рассказа и всего повествования в целом. Первая проистекает из содержания исполняемой Васей-поляком музыки. Вася так рассказывает о человеке, её сочинившем: «Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого… Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина – он ещё не сирота… Всё проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по родине» . В издании 1978 года Астафьев на этом не заканчивает рассказ героя. Вася добавляет: «Эту музыку написал мой земляк Огинский в корчме – так называется у нас заезжий дом… Написал на границе, прощаясь с Родиной. Он посылает ей последний привет. Давно уже нет композитора на свете. Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не мог отнять, жива до сих пор» .
Эту музыку услышал сирота Витька Потылицын в скрипичном исполнении Васи-поляка. Спустя годы Виктор вновь услышал этот полонез в разрушенном войной польском городе в органном исполнении, и ему захотелось, чтобы «люди не жались к горящим развалинам, чтобы зашли они под крышу в свой дом, к близким и любимым…» [ 1, 23 ] .
Астафьев признавался, передавая на суд читателей «Страницы детства», как прежде он называл свою книгу, что «ему иногда кажется, что он вот-вот постигнет причину, точнее сказать, мысль о вечной нашей тяге к родной земле, к детству и к тому месту, где пролита кровь в бою. Но всё-таки мысли этой я не постиг. Да и постижима ли она?» [ 3, 28 ] .Причину тяги к родной земле писатель, может быть, и не постиг, но тоску человека, разлучённого с Родиной, передал.
Второй смысл образа музыки вытекает из мифопоэтического его содержания. Образ музыки соединяется Астафьевым с образом земли.
Прежде следует обратить внимание на образ Васи-поляка. Вася-поляк жил в караулке при завозне. Завозня, объясняет писатель, это место, где хранили семена: «Если сгорит дом,если сгорит даже всё село, семена будут целы и, значит, люди будут жить…» [ 1, 5 ] .Следовательно, Вася-поляк – сторож, охраняющий зерно, а, значит, жизнь. Но Вася-поляк ещё и скрипач, и музыка его будоражила человеческую душу, заставляя женщин плакать, а мужиков злиться неизвестно на что. Вася-поляк сторожил не только зерно, он стоял на страже человеческой души, не позволяя ей зачерстветь, покрыться ледяной коркой.
В описании караулки, в которой жил Вася-поляк, обращают на себя внимание детали («окно… затянуло черёмушником, жалицей, хмелем…», «хмель запеленал её…» ), которые свидетельствуют о том, что караулка как бы слилась с природой, стала её частью. И Витьке Потылицыну, замершему от страха, потому что «слева кладбище, спередиувал… один я, один, кругом жуть такая, и ещё музыка-скрипка» ,представляется, что это не скрипка играет, а земля поёт. «Но из-под увала, из сплетений хмеля и черёмух, из глубокого нутра земли возникла музыка, и не музыка это, а ключ течёт из-под горы,… снова забилась живая жилка ключа за Васиной избёнкой. Ключ начал полнеть, и не один уж ключ, два, три, грозныйуже поток хлещет из скалы, катит камни, ломает деревья, выворачивает их с корнями, несёт, крутит. Вот-вот сметётизбушку под горой, смоет завозню и обрушит всё с гор. В небе ударят громы, сверкнут молнии, от них вспыхнут таинственные цветы папоротника. От цветов зажжётся лес, зажжётся земля и не залить уже будет этот огонь даже Енисеем – ничем не остановить страшную такую бурю» [ 2, 12 ] .
Соединение образов земли и музыки можно обнаружить и в других произведениях русской литературы. Например, в «Песне о земле»В. Высоцкого:
Кто сказал, что земля не поёт,
Что она замолчала навеки.
Нет, звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин.
Ведь земля – этот наша душа,
Сапогами не вытоптать душу.
На риторические вопросы, которые задаёт герой Астафьева: («О чём же это рассказала мне музыка? Про обоз? Про мёртвую маму? Про девочку, у которой сохнет рука? На что она жаловалась? На кого гневалась? Почему так тревожно и горько мне?» ),ответы есть. Не случайно, этот рассказ выполняет роль предисловия. Именно тогда, когда ребёнок слышит эту музыку земли, начинается «работа» его души. Герой чувствует и осознаёт важную истину: «Растроганными слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, спящий за ним лес. Мне даже мимо кладбища не страшно было идти. Ничего сейчас не страшно. В эти минуты не было вокруг меня зла. Мир был добр и одинок – ничего, ничего дурного в нём не умещалось» .
Как известно, музыка – один из самых высоких способов символического мышления. Мифологема музыки многозначна. Чаще всего музыка воспринимается, как часть упорядоченной модели космоса… Музыка символизирует порядок и гармонию… Просветлениедуши символизируется звуками музыки [ 4, 335 ] .
Музыка позволила понять Витьке, что ничто не может поколебать космический порядок и гармонию, что жизнь торжествует несмотря ни на что. Витьке ещё многое придётся пережить, столкнуться с несправедливостью и жестокостью, но та истина, которую он постиг, слушая музыку, поможет ему преодолеть трудности жизни. Даже тогда, когда ему в разрушенном войной городе на какой-то миг показалось, что «ничего живого не осталось на земле» ,музыка вновь напомнила ему о торжестве жизни: «Музыка гремела над городом, глушила разрывы снарядов, гул самолётов, треск и шорох горящих деревьев. Музыка властвовала над оцепенелыми развалинами» [ 2, 21 ] .
Рассказ «Далёкая близкая сказка» является ключом к пониманию всего повествования. Книга насыщена звуками: «наговаривает на перекатах» речка, Зорька славит приход утра своей песней, шумит тихий почти неслышный дождь и т.д. Это всё звуки земли, её вечная музыка, которая позволяет поверить в вечность жизни, в тот круговорот, когда последнее становится первым. Музыка земли вызывает отклик в душе ребёнка, заставляет её трепетать, радоваться и страдать, а это значит, что душа его живая.
Образ музыки является одним из основных в художественном мире писателя. Звучит он и в «Затесях» в рассказах «Сильный колос», «Хлебозары»: «Зарницы, Зарницы. Зарницы. Земля слушает их. Хлеба слушают их. И то, что нам кажется немотою, для них, может быть, самаясладкая музыка».
Музыка есть в каждой минуте жизни. Повторённое трижды слово «зарницы» и одинаковая синтаксическая конструкция двух следующих предложений придают фразе особый музыкальный ритм, призванный передать песню земли. В «Последнем поклоне», «Затесях» отразилось представление писателя о взаимосвязи человека и мира, его убеждённость в том, что и в природе, и в человеке обнаруживается присутствие Бога. Человек, по мнению автора, часть мира, ему не страшны природные стихии, поскольку мир задуман и устроен гармонично.
Литература:
1. Астафьев В. Последний поклон. М., 1978.
2. Астафьев В. Собр. соч. в 15-ти тт. Т. 4. Красноярск, 1997.
3. Вахитова Т. М. Повествование в рассказах В. Астафьева «Царь-рыба». М., 1988.
4. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Сост. В. Андреева, М., 2000.
Произведение Распутина "Пожар" было издано в 1985 году. В данной повести писатель как бы продолжает анализ жизни переехавших в другое селение после затопления острова людей из повести "Прощание с Матерой". Их переселяли в поселок городского типа Сосновку. Главный герой - Иван Петрович Егоров - ощущает себя истощенным морально и физически: "как в могиле".
Трудно отыскать в истории литературы произведение, в котором не осознавались бы проблемы духа и нравственности, не отстаивались бы морально-этические ценности.
Творчество нашего современника Валентина Распутина не составляет в этой связи исключения. Я люблю все книги этого писателя, но особенно меня потрясла повесть "Пожар", опубликованная во времена перестройки.
Ситуация с пожаром в повести позволяет автору исследовать настоящее и прошлое. Горят склады, товары, которых люди не видели на прилавках: колбасы, японские тряпки, красная рыба, мотоцикл "Урал", сахар, мука. Часть народа, пользуясь неразберихой, растаскивает, что может. В повести, пожар является символом катастрофы для социальной атмосферы в Сосновке. Распутин пытается объяснить это ретроспективным анализом. В Сосновке земледельческими работами не занимаются, заготавливают лес, причем, не обеспечивая его воспроизводство. Леса надолго не хватит. Поэтому и за поселком не следят. Он "неуютный и неопрятный", грязь намешивалась техникой "до черно-сметанной пены". Повесть вскрывает перерождение психологии земледельца, хлебороба в психологию уничтожающего природу иждивенца.
Событийная основа повести проста: в поселке Сосновка загорелись склады. Кто спасает из пожара народное добро, а кто тянет, что можно, для себя. То, как ведут себя люди в экстремальной ситуации, служит толчком к тягостным раздумьям главного героя повести шофера Ивана Петровича Егорова, в котором Распутин воплотил народный характер правдолюбца, страдающего при виде разрушения вековой нравственной основы бытия.
Иван Петрович ищет ответы на вопросы, которые подбрасывает ему окружающая действительность. Почему "все перевернулось с ног на голову?.. Было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя - стало можно, считалось за позор, за смертный грех - почитается за ловкость и доблесть". Как современно звучат эти слова! Ведь и в наши дни, спустя столько лет после публикации произведения, забвение элементарных нравственных принципов является не позором, а "умением жить".
Иван Петрович законом своей жизни сделал правило "жить по совести", ему больно, что при пожаре однорукий Савелий тащит в свою баньку мешки с мукой, а "дружные ребята - архаровцы" перво-наперво хватают ящики с водкой.
Но герой не только страдает, он пытается найти причину этого нравственного оскудения. При этом главным является разрушение вековых традиций русского народа: разучились пахать и сеять, привыкли только брать, вырубать, разрушать.
Во всех произведениях В. Распутина особую роль играет образ Дома (именно с заглавной буквы): дом старухи Анны, куда съезжаются ее дети, изба Гуськовых, которая не принимает дезертира, дом Дарьи, уходящий под воду. У жителей Сосновки этого нет, а сам поселок словно временное пристанище: "Неуютный и неопрятный... бивачного типа... словно кочевали с места на место, остановились переждать непогоду, да так и застряли...". Отсутствие Дома лишает людей жизненной основы, добра, тепла. Читатель ощущает острое беспокойство от картины безжалостного покорения природы. Большой объем работ требует большого количества рабочих рук, часто каких попало. Писатель описывает пласт "лишних", равнодушных ко всему людей, от которых в жизни разлад.
К ним добавились "архаровцы" (бригада оргнабора), которые нагло давили на всех. И местные жители растерялись перед этой злой силой. Автор через размышления Ивана Петровича разъясняет ситуацию: "... люди разбрелись всяк по себе еще раньше..." Социальные слои в Сосновке перемешались. Происходит распад "общего и слаженного существования". За двадцать лет жизни в новом поселке изменилась нравственность. В Сосновке даже палисадников у домов нет, потому что все равно это временное жилье. Иван Петрович остался верен прежним принципам, нормам добра и зла. Он честно работает, переживает за упадок нравов. И оказывается в положении инородного тела. Попытки Ивана Петровича помешать шайке Девятого вершить власть кончаются местью шайки. То проколют шины у его автомобиля, то насыплют песок в карбюратор, то изрубят тормозные шланги к прицепу, то выбьют стойку из-под балки, которая чуть не убьет Ивана Петровича.
Приходится Ивану Петровичу собираться с женой Аленой уезжать на Дальний Восток к одному из сыновей. Укоризненно спрашивает его Афоня Бронников: "Ты уедешь, я уеду - кто останется?.. Эх! Неужто так и бросим?! Обчистим до ниточки и бросим! И нате - берите, кому не лень!" Так и не сможет уехать Иван Петрович.
В повести много положительных персонажей: жена Ивана Петровича Алена, старый дядя Миша Хампо, Афоня Бронников, начальник участка леспромхоза Борис Тимофеевич Водников. Символичны описания природы. В начале повести (март) она вялая, оцепенелая. В конце - момент затишья, перед расцветом. Шагающего по весенней земле Ивана Петровича "будто вынесло наконец на верную дорогу".
Замечательный русский писатель Валентин Распутин с гражданской открытостью в своих произведениях поднял самые насущные и злободневные вопросы времени, задел самые болевые его точки. Даже само заглавие повести "Пожар" завоевывает характер метафоры, дышащей идеей нравственного неблагополучия. Распутин веско доказал, что моральная ущербность отдельно взятого человека неминуемо повергает к разгрому основ жизни народа. В этом и заключается для меня безжалостная истина повести Валентина Распутина.
Женские желания, женский интерес…Существует ли перечень того, чего хочет женщина, что ей интересно? Французы, видимо, изрядно намучившись с поиском ответов, сделали решительный вывод: Чего хочет женщина, того хочет Бог!
Множество вопросов и ответов, советов и хитроумного опыта, модных новинок и стильных штучек – всё это есть на страницах раздела «Женский интерес»

Вологда. 1979 год. Агитпоезд «Ленинский комсомол» колесил с культурной программой по Нечерноземью. Я и Сергей Матвеевич Трусов (баянист и композитор) представляли Красноярскую песню. На одном из концертов произошла историческая встреча с Виктором Петровичем Астафьевым. Я спела, ухожу со сцены, вдруг подходит ко мне незнакомый мужчина, так, по-свойски, обнимает меня, и говорит:
Как услышал, как ты заливаешься, сразу понял: это с Енисея. Только там такие голосистые! Я ведь тоже с Енисея, там моя родина…Виктор Петрович Астафьев, - представился он мне.
Так мы познакомились. Я раньше читала его рассказы «Конь с розовой гривой» и «Монах в новых штанах». Интересно! Свой слог и почерк. А в 1980 году в Красноярске заговорили, что В.Астафьев приезжает на Родину совсем, жить и работать. И он приехал.
Осенью 1980 года мы встретились, попили чайку, попели песни, настоящие, народные. А голос у него замечательный и слух отличный.
Его любимыми были песни «По Муромской дорожке», «Отец мой был природный пахарь», «Каким ты был», «Черный ворон, «Под окном черёмуха колышется», «Миленький ты мой», «Позарастали стёжки-дорожки», «Вот кто-то с горочки спустился». А сколько он знал баек народных, такой интересный рассказчик, с шутками-прибаутками, а иногда и словечко крепкое вставит для красоты…
Приехала в Красноярск певица Зара Долуханова, а Виктор Петрович её обожал. Поехали мы на концерт, заходим во Дворец Культуры, он меня под ручку взял, идём, о чём-то говорим. Вдруг навстречу делегация от чиновников (в то время к нему было повышенное внимание), ну, вот, они меня так это тихонечко от Виктора Петровича оттирают. Он заметил и говорит:
Что это, девка, они тебя от меня оттащили?
Ревнуют…
Тогда все хотели быть с ним рядом.
Позже, когда Виктор Петрович дарил мне свои книги, то подписывал их таким образом: «Соловушка! Пой ещё громче, а то вороньё заглушит». Встречи наши были не частыми. Мы с Сергеем Матвеевичем понимали, как он занят, да и сами в то время были постоянно на гастролях, ездили по всему Союзу и за границей представляли сибирское искусство. А в Овсянке мы участвовали в различных мероприятиях, посвящённых Виктору Петровичу, его землякам, которые по-своему пели песни, сказывали истории, исполняли частушки. Они просто поражали своим фольклором. На концерте зрители пели нам свои частушки, особенно запомнились эти:
А овсянские девчонки
Городску моду ведут
Губы сахаром намажут
Брови сажей подведут
или:
По Овсянке я прошел,
Путной девки не нашел:
То брюхата, то с родин,
То подбитый глаз один
Сергей Матвеевич говорит:
Вы так хорошо спели! Мы вам кассету с нашими песнями подарим, у вас проигрыватель есть?
А частушечница и отвечает:
Нету! Я одна живу…
Позже Анна Епиксимовна Козынцева, бессменный директор библиотеки в Овсянке вручила нам грамоты при всём честном народе «Почётный меценат». Были мы и на церемонии открытия библиотеки. 4 мая 1994 года, в год 70-летия Виктора Петровича она распахнула двери для читателей и гостей, которых было очень много. Съехались со всех уголков России. Виктору Петровичу предоставили первое слово, и он сказал:
Строили библиотеку святые люди, открылась она - и появилась у нас
надежда на жизнь…
Лежал как-то Виктор Петрович в больнице в Академгородке, а когда полегчало, позвонил мне, приезжай, мол, девка, я один в палате, душеньку порадуешь. А я говорю, что громко пою, услышат и выгонят из больницы, а он в ответ:
А ты пой под «сурдинку»…
Ну, а уж в «голос» петь разрешалось в Овсянке, на усадьбе Виктора Петровича, где росло всё: и цветы и картошка, и лук и клубника, и деревья разные росли, особенно он гордился кедром, который посадил сам в год своего возвращения на Родину в 1980 году.
У Виктора Петровича был друг, Александр Потапенко, он писал стихи, помогал В.П. транспортом, послужил прототипом милиционера Сошнина из «Печального детектива», а с Сергеем Матвеевичем у них была творческая дружба, вместе песни писали.
Вот А. Потапенко и говорит Сергею Матвеевичу: «Поедем в аэропорт на твоей машине встречать Виктора Петровича. Они с Марией Семёновной откуда-то вернулись, много вещей (а у нас авто-кузов универсал, даже контрабас входит вместе с балалайками). Встретили, Виктор Петрович и говорит:
Сашка, садись ты за руль, Серёжка мастер на баяне играть, а как рулит, я не знаю…
А мне Виктор Петрович всё выговаривал: «Что ж ты, девка, так плохо Серёжку кормишь, бледный такой! Сама-то какая ладная со всех сторон…» Это он так, от чистого сердца сказал, а однажды, не удержался и… «наладил» мне по мягкому месту, да где? На юбилее ТВК!!! Народу было много, гости с поздравлениями и Виктор Петрович с Марией Семёновной присутствовали, все почему-то стояли перед импровизированной сценой, меня объявили, а Виктор Петрович как хлопнет меня ниже спины с напутствием: «Пой хорошенько!» И я запела… да с таким настроением спела, помня наказ Виктора Петровича, что он сам «браво!» кричал.
Как-то заехали они с А. Потапенко в гости « на часок», а мы только вернулись с гастролей. Были на севере, привезли хорошей туруханской селёдки. А в холодильнике пусто! Я быстренько наварила картошки, да с селёдочкой, да под водочку, так хорошо пошло!
С Виктором Петровичем всегда было интересно общаться. Такой великий и простой. Он всегда нам доверял, говорил от души, что думал и что хотел. У него было чему поучиться! На одной из встреч с ним Виктор Петрович подписал нам книгу «Царь – рыба», а мы ему спели новую песню, посвящённую ветеранам войны, в том числе и ему, как фронтовику. Мужественный человек, а тут не сдержался - слёзы на глазах…Он всегда хвалил песни, написанные Сергеем Матвеевичем, и всё переживал, почему теперь не поют хороших песен, где без них взять веру в завтрашний день? Ведь она без народной музыки, без пляски, песни и радости - невозможна. Только народ создаёт искусство народно-ликующее. И это были не просто слова, ведь у него в роду так здорово пели! И мать его, очень красивая, статная, пела замечательно, но я лично её не слыхала, потому как она рано ушла из жизни: утонула в Енисее-батюшке. А вот тётушки Виктора Петровича хорошо пели, мне посчастливилось рядом посидеть и послушать, да и подпеть. Он так хотел, чтобы я спела романс на его стихи «Ах, осень, осень» и записала бы на плёнку. Я обещала. Не успела.
В 1995 году телекомпания «Звёздный дождь» снимала большой музыкальный фильм о нашем с Сергеем Матвеевичем творчестве. Прилетела съёмочная группа – 5 человек во главе с В.Рукиным. Конечно же, мы их повезли в Овсянку! Потому, что там В.П.Астафьев, и сама природа с сибирским колоритом. Был март, в Овсянке было чисто, солнечно, лежал белый снег, яркое голубое небо, и, казалось, волны Енисея разыгрались… а с противоположного берега, где огромные чудные скалы, нам махала своими ветвями-руками единственная берёзка, которую так любил Виктор Петрович. Мы снимали песню «Эх, деревня» Сергея Трусова. Он ходил по улицам Овсянки с баяном и играл, как настоящий деревенский гармонист. Было такое впечатление, как будто он там родился и вырос, а я стояла у дома с кедром и пела. И вдруг появляется красивый котяра, прыгнул на палисадник и идёт ко мне, я его взяла на руки, получилась, ну, просто настоящая чисто деревенская картинка, как по заказу!
Вторую песню снимали в доме. Лирическая такая и режиссёру захотелось, чтобы я из окошка смотрела и пела. Хозяйка этого дома только что протопила печку и…уже закрыла трубу. Сижу - пою, а слёзы – ручьём (глаза-то от угару щиплет), а режиссёр на улице, на свежем воздухе, радуется: «Вот, говорит, как в образ вошла, плачет настоящими слезами»…
Потом мы все поехали в Дивногорск продолжать наши съёмки. Нас даже на саму плотину пустили сниматься. Москвичи были ошеломлены такой красотищей, таким природным величием, как они говорили: «Астафьевским колоритом». Про меня забыли, всё натуру снимали, так увлеклись, по снегу ползают, на деревья забираются…
Уезжали из Овсянки вечером, заехали на смотровую площадку и снимали Енисей весь в золотых огнях до самого Дивногорска. Это было настоящее чудо!
И сейчас, когда я пою о Родине, о Сибири, или просто народную песню, у меня перед глазами стоит эта природа, могучая, неповторимая по красоте, и через неё вижу образ: мудрый взгляд Виктора Петровича Астафьева…
В 70-е и 80-е годы нашего столетия лира поэтов и прозаиков мощно звучала в защиту окружающей природы. Писатели выходили к микрофону, писали статьи в газеты, отложив работу над художественными произведениями. Они отстаивали наши озера и реки, леса и поля. Это была реакция на резкую урбанизацию нашей жизни. Деревни разорялись - города росли. Как всегда в нашей стране, все это делалось с размахом, и щепки летели вовсю. Сейчас уже подведены мрачные итоги причиненного тогда горячими головами вреда нашей природе.
Писатели - борцы за экологию все родились близ природы, знают и любят ее. Это такие известные у нас и за границей прозаики, как Виктор Астафьев и Валентин Распутин.
Героя повести В. Астафьева «Царь-рыба» автор называет «хозяином». Действительно, Игнатьич умеет делать все и лучше и быстрее всех. Его отличает бережливость и аккуратность. «Само собой, ловил Игнатьич рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего брата Командора». Отношения между братьями были сложными. Командор не только не скрывал своей неприязни к брату, но и показывал ее при первом удобном случае. Игнатьич старался не обращать на это внимания.
Собственно, он ко всем жителям поселка относился с некоторым превосходством и даже снисходительностью. До идеала главному герою повести, конечно, далеко: им властвует жадность и потребительское отношение к природе. Автор сводит главного героя один на один с природой. За все его грехи перед ней природа преподносит Игнатьичу суровое испытание. Произошло это так: Игнатьич отправляется рыбачить на Енисей и, не довольствуясь мелкой рыбой, ждет осетра. «И в этот миг заявила о себе рыбина, пошла в сторону, защелкали о железо крючки, голубые искорки из борта лодки высекло. За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, черного тряпья».
В этот момент Игнатьич увидел рыбу у самого борта лодки. «Увидел и опешил: что-то редкостное, первобытное было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела - на доисторического ящера походила она…» Рыба сразу показалась Игнатьичу зловещей. Душа его как бы раздвоилась: одна половина подсказывала отпустить рыбу и тем сохранить себя, но другая ни в какую не хотела упускать такого осетра, ведь царь-рыба попадается лишь раз в жизни.
Страсть рыбака берет верх над благоразумием. Игнатьич решает во что бы то ни стало выловить осетра. Но по неосторожности он оказывается в воде, на крючке собственной снасти. Игнатьич чувствует, что тонет, что рыбина тянет его на дно, но он ничего не может сделать для своего спасения. Перед лицом смерти рыбина становится для него некоей тварью. Герой, никогда не верующий в Бога, в этот миг обращается к нему за помощью. Игнатьич вспоминает о том, что пытался забыть в течение всей своей жизни: опозоренную девушку, которую обрек на вечные страдания. Выходило так, что природа, тоже в каком-то смысле «женщина», мстила ему за причиненное зло.
Природа отомстила человеку жестоко. Игнатьич, «не владея ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь да услышит его, прерывисто и изорванно засипел: «Гла-а-аша-а-а, прос-ти-и-и…» И когда рыба отпускает Игнатьича, он чувствует, что душа его освобождается от греха, который давил на него в течение всей жизни. Получилось так, что природа выполнила божественную задачу: призвала грешника к покаянию и за это отпустила ему грех. Автор оставляет надежду на жизнь без греха не только своему герою, но и нам всем, потому что никто на земле не застрахован от конфликтов с природой, а значит, и с собственной душой.
По-своему ту же тему раскрывает писатель Валентин Распутин в повести «Пожар». Герои повести занимаются заготовкой леса. Они «словно кочевали с места на место, остановились переждать непогоду да так и застряли». Эпиграф повести: «Горит село, горит родное» - заранее настраивает читателя на события повести. Распутин раскрыл душу каждого героя своего произведения через пожар: «Во всем том, как вели себя люди - как бегали по двору, как выстраивали цепи, чтобы передавать из рук в руки пакеты и связки, как дразнили огонь, рискуя собой до последнего, - во всем этом было что-то ненастоящее, дурашливое, делающееся в азарте и беспорядочной страсти».
В неразберихе на пожаре люди разделились на два лагеря: творящих Добро и делающих Зло. Главный герой повести Иван Петрович Егоров - гражданин законник, как его называют архаровцы. Автор архаровцами окрестил беспечных, нетрудолюбивых людей. Во время пожара эти архаровцы и ведут себя соответственно своему обычному житейскому поведению: «Все тащат! Клавка Стригунова полные карманы набила маленькими коробочками. А в них, поди, не утюги, в них, поди, че-то такое!..
В голяшку наталкивают, за пазуху! А бутылки эти, бутылки!» Ивану Петровичу невыносимо ощущать свою беспомощность перед этими людьми. Но беспорядок царит не только вокруг, но и в его душе. Герой осознает, что «у человека в жизни четыре подпорки: дом с семьей, работа, люди и земля, на которой стоит твой дом. Захромает какая - весь свет внаклон». В данном случае «захромала» земля. Ведь жители поселка нигде не имели корней, «кочевали». А земля от этого молча страдала. Но наступил момент наказания.
В данном случае роль возмездия выполнил огонь, который тоже является силой природы, силой разрушения. Мне кажется, не случайно автор завершил повесть почти по Гоголю: «Что ты есть молчаливая наша земля, доколе молчишь ты? И разве молчишь ты?» Возможно, эти интонации, однажды уже приковавшие к себе внимание русской общественности, сослужат и сейчас нашей родине добрую службу.
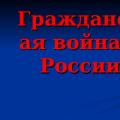 Презентация - гражданская война в россии Гражданская война в истории человечества презентация
Презентация - гражданская война в россии Гражданская война в истории человечества презентация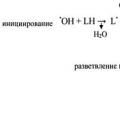 Продукты перекисного окисления липидов
Продукты перекисного окисления липидов Папка передвижка лексическая тема «Зима
Папка передвижка лексическая тема «Зима