Прочитать заколдованное место. Гоголь заколдованное место
Николай Васильевич Гоголь
Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви
Ей-богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит! Вот извольте видеть: нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет одиннадцать; так нет же, не одиннадцать: я помню как теперь, когда раз побежал было на четвереньках и стал лаять по-собачьи, батько закричал на меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома! тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак!» Дед был еще тогда жив и на ноги - пусть ему легко ткнется на том свете - довольно крепок. Бывало, вздумает…
Да что ж эдак рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что, в самом деле!.. Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать!
Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню только, два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою взял он трехгодового брата - приучать заранее чумаковать. Нас осталось: дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень; взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат. Ну, оно притом же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынею. Да из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее.
Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день возов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый: пойдет рассказывать - только уши развешивай! А деду это все равно что голодному галушки. Иной раз, бывало, случится встреча с старыми знакомыми, - деда всякий уже знал, - можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то да тогда-то, такое-то да такое-то было… ну, и разольются! вспомянут бог знает когдашнее.
Раз, - ну вот, право, как будто теперь случилось, - солнце стало уже садиться; дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днем, чтоб не попеклись на солнце.
Смотри, Остап! - говорю я брату, - вон чумаки едут!
Где чумаки? - сказал дед, положивши значок на большой дыне; чтобы на случай не съели хлопцы.
По дороге тянулось точно возов шесть. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедши шагов - как бы вам сказать - на десять, он остановился.
Здорово, Максим! Вот привел бог где увидеться!
Дед прищурил глаза:
А! здорово, здорово! откуда бог несет? И Болячка здесь? здорово, здорово, брат! Что за дьявол! да тут все: и Крутотрыщенко! и Печерыця и Ковелек! и Стецько! здорово! А, га, га! го, го!.. - И пошли целоваться.
Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? за россказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями. Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть), обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот.
Что же вы, хлопцы, - сказал дед, - рты свои разинули? танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка козачка! Фома, берись в боки! ну! вот так! гей, гоп!
Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая! теперь уже не пойду так; вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте: так, как будто их что-нибудь дергает.
Смотри, Фома, - сказал Остап, - если старый хрен не пойдет танцевать!
Что ж вы думаете? не успел он сказать - не вытерпел старичина! захотелось, знаете, прихвастнуть пред чумаками.
Вишь, чертовы дети! разве так танцуют? Вот как танцуют! - сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками.
Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетьманшею. Мы посторонились, и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однако ж до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, - не подымаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошел до середины - не берет! что хочь делай: не берет, да и не берет! ноги как деревянные стали! «Вишь, дьявольское место! вишь, сатанинское наваждение! впутается же ирод, враг рода человеческого!»
Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть; до середины - нет! не вытанцывается, да и полно!
А, шельмовский сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею! чтоб еще маленьким издохнул, собачий сын! вот на старость наделал стыда какого!..
И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего; назади, впереди, по сторонам - гладкое поле.
Э! ссс… вот тебе на!
Начал прищуривать глаза - место, кажись, не совсем незнакомое: сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть! да это голубятня, что у попа в огороде! С другой стороны тоже что-то сереет; вгляделся: гумно волостного писаря. Вот куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому ветру!» - подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка.
Вишь! - стал дед и руками подперся в бока, и глядит: свечка потухла; вдали и немного подалее загорелась другая. - Клад! - закричал дед. - Я ставлю бог знает что, если не клад! - и уже поплевал было в руки, чтобы копать, да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. - Эх, жаль! ну, кто знает, может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик! Нечего делать, назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после!
Вот, перетянувши сломленную, видно вихрем, порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть; мелькнул плетень. «Ну, так! не говорил ли я, - подумал дед, - что это попова левада? Вот и плетень его! теперь и версты нет до баштана».
Поздненько, однако ж, пришел он домой и галушек не захотел есть. Разбудивши брата Остапа, спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал было спрашивать:
А куда тебя, дед, черти дели сегодня?
Не спрашивай, - сказал он, завертываясь еще крепче, - не спрашивай, Остап; не то поседеешь! - И захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, поподымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось! Нечего сказать, хитрая была бестия, дай боже ему царствие небесное! - умел отделаться всегда. Иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать.
На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял под мышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес. Промеж деревьев вьется дорожка и выходит в поле. Кажись, та самая. Вышел и на поле - место точь-в-точь вчерашнее: вон и голубятня торчит; но гумна не видно. «Нет, это не то место. То, стало быть, подалее; нужно, видно, поворотить к гумну!» Поворотил назад, стал идти другою дорогою - гумно видно, а голубятни нет! Опять поворотил поближе к голубятне - гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну - голубятня пропала; к голубятне - гумно пропало.
А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть!
А дождь пустился, как будто из ведра.
Вот, скинувши новые сапоги и обернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский иноходец. Влез в курень, промокши насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать черта такими словами, какие я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы, верно, покраснел, если бы случилось это среди дня.
На другой день проснулся, смотрю: уже дед ходит по баштану как ни в чем не бывало и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал пугать меньшего брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза; а пообедавши, сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть; и дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую называл он турецкою. Теперь таких дынь я нигде и не видывал. Правда семена ему что-то издалека достались.
Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви
Ей-Богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи... Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-Богу, обморочит! Вот извольте видеть: нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет одиннадцать; так нет же, не одиннадцать: я помню как теперь, когда раз побежал было на четвереньках и стал лаять по-собачьи, батько закричал на меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома! тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак!» Дед был еще тогда жив и на ноги — пусть ему легко икнется на том свете — довольно крепок. Бывало, вздумает... Да что ж эдак рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что, в самом деле!.. Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать! Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню только, два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою взял он трехгодового брата — приучать заранее чумаковать. Нас осталось: дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень; взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе, ей-Богу, как будто петухи кричат. Ну, оно притом же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынею. Да из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее. Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день возов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый: пойдет рассказывать — только уши развешивай! А деду это все равно что голодному галушки. Иной раз, бывало, случится встреча с старыми знакомыми, — деда всякий уже знал, — можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то да тогда-то, такое-то да такое-то было... ну, и разольются! вспомянут Бог знает когдашнее. Раз, — ну вот, право, как будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться; дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днем, чтоб не попеклись на солнце. — Смотри, Остап! — говорю я брату, — вон чумаки едут! — Где чумаки? — сказал дед, положивши значок на большой дыне, чтобы на случай не съели хлопцы. По дороге тянулось точно возов шесть. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедши шагов — как бы вам сказать — на десять, он остановился. — Здорово, Максим! Вот привел Бог где увидеться! Дед прищурил глаза: — А! здорово, здорово! откуда Бог несет? И Болячка здесь? здорово, здорово, брат! Что за дьявол! да тут все: и Крутотрыщенко! и Печерыця и Ковелек! и Стецько! здорово! А, га, га! го, го!.. — И пошли целоваться. Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? за россказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями. Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть), обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот. — Что ж вы, хлопцы, — сказал дед, — рты свои разинули? танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка козачка! Фома, берись в боки! ну! вот так! гей, гоп! Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая! теперь уже не пойду так; вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте: так, как будто их что-нибудь дергает. — Смотри, Фома, — сказал Остап, — если старый хрен не пойдет танцевать! Что ж вы думаете? не успел он сказать — не вытерпел старичина! захотелось, знаете, прихвастнуть пред чумаками. — Вишь, чертовы дети! разве так танцуют? Вот как танцуют! — сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками. Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетьманшею. Мы посторонились, и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однако ж, до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, — не подымаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошел до середины — не берет! что хочь делай: не берет, да и не берет! ноги как деревянные стали! «Вишь, дьявольское место! вишь, сатанинское наваждение! впутается же Ирод, враг рода человеческого!» Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть; до середины — нет! не вытанцывается, да и полно! — А, шельмовский сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею! чтоб еще маленьким издохнул, собачий сын! вот на старость наделал стыда какого!.. И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего; назади, впереди, по сторонам — гладкое поле. — Э! ссс... вот тебе на! Начал прищуривать глаза — место, кажись, не совсем незнакомое: сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть! да это голубятня, что у попа в огороде! С другой стороны тоже что-то сереет; вгляделся: гумно волостного писаря. Вот куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому ветру!» — подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка. — Вишь! — стал дед и руками подперся в боки, и глядит: свечка потухла; вдали и немного подалее загорелась другая. — Клад! — закричал дед. — Я ставлю Бог знает что, если не клад! — и уже поплевал было в руки, чтобы копать, да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. — Эх, жаль! ну, кто знает, может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик! Нечего делать, назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после! Вот, перетянувши сломленную, видно вихрем, порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть; мелькнул плетень. «Ну, так! не говорил ли я, — подумал дед, — что это попова левада? Вот и плетень его! теперь и версты нет до баштана». Поздненько, однако ж, пришел он домой и галушек не захотел есть. Разбудивши брата Остапа, спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал было спрашивать: — А куда тебя, дед, черти дели сегодня? — Не спрашивай, — сказал он, завертываясь еще крепче, — не спрашивай, Остап; не то поседеешь! — И захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, поподымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось! Нечего сказать, хитрая была бестия, дай Боже ему Царствие Небесное! — умел отделаться всегда. Иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать. На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял под мышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес. Промеж деревьев вьется дорожка и выходит в поле. Кажись, та самая. Вышел и на поле — место точь-в-точь вчерашнее: вон и голубятня торчит; но гумна не видно. «Нет, это не то место. То, стало быть, подалее; нужно, видно, поворотить к гумну!» Поворотил назад, стал идти другою дорогою — гумно видно, а голубятни нет! Опять поворотил поближе к голубятне — гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну — голубятня пропала; к голубятне — гумно пропало. — А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть! А дождь пустился, как будто из ведра. Вот, скинувши новые сапоги и обернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский иноходец. Влез в курень, промокши насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать черта такими словами, каких я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы, верно, покраснел, если бы случилось это среди дня. На другой день проснулся, смотрю: уже дед ходит по баштану как ни в чем не бывало и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал пугать меньшего брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза; а пообедавши, сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть; и дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую называл он турецкою. Теперь таких дынь я нигде и не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались. Ввечеру, уже повечерявши, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы: «Проклятое место!» — взошел на середину, где не вытанцывалось позавчера, и ударил в сердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле: с одной стороны торчит голубятня, а с другой гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять с собою заступ. Вон и дорожка! вон и могилка стоит! вон и ветка навалена! вон-вон горит и свечка! Как бы только не ошибиться». Потихоньку побежал он, поднявши заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка погасла; на могиле лежал камень, заросший травою. «Этот камень нужно поднять!» — подумал дед и начал обкапывать его со всех сторон. Велик проклятый камень! вот, однако ж, упершись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы. «Гу!» — пошло по долине. «Туда тебе и дорога! Теперь живее пойдет дело». Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести к носу, как вдруг над головою его «чихи!» — чихнуло что-то так, что покачнулись деревья и деду забрызгало все лицо. — Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть! — проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся — никого нет. — Нет, не любит, видно, черт табаку! — продолжал он, кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. — Дурень же он, а такого табаку ни деду, ни отцу его не доводилось нюхать! Стал копать — земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидел он котел. — А, голубчик, вот где ты! — вскрикнул дед, подсовывая под него заступ. — А, голубчик, вот где ты! — запищал птичий нос, клюнувши котел. Посторонился дед и выпустил заступ. — А, голубчик, вот где ты! — заблеяла баранья голова с верхушки дерева. — А, голубчик, вот где ты! — заревел медведь, высунувши из-за дерева свое рыло. Дрожь проняла деда. — Да тут страшно слово сказать! — проворчал он про себя. — Тут страшно слово сказать! — пискнул птичий нос. — Страшно слово сказать! — заблеяла баранья голова. — Слово сказать! — ревнул медведь. — Гм... — сказал дед и сам перепугался. — Гм! — пропищал нос. — Гм! — проблеял баран. — Гум! — заревел медведь. Со страхом оборотился он: Боже ты мой, какая ночь! ни звезд, ни месяца; вокруг провалы; под ногами круча без дна; над головою свесилась гора и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него! И чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя: у! у! нос — как мех в кузнице; ноздри — хоть по ведру воды влей в каждую! губы, ей-Богу, как две колоды! красные очи выкатились наверх, и еще и язык высунула и дразнит! — Черт с тобою! — сказал дед, бросив котел. — На тебе и клад твой! Экая мерзостная рожа! — и уже ударился было бежать, да огляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему. — Это только пугает нечистая сила! Принялся снова за котел — нет, тяжел! Что делать? Тут же не оставить! Вот, собравши все силы, ухватился он за него руками. — Ну, разом, разом! еще, еще! — и вытащил! — Ух! Теперь понюхать табаку! Достал рожок; прежде, однако ж, чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько, нет ли кого: кажись, что нет; но вот чудится ему, что пень дерева пыхтит и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза; ноздри раздулись, нос поморщился и вот так и собирается чихнуть. «Нет, не понюхаю табаку, — подумал дед, спрятавши рожок, — опять заплюет сатана очи». Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало духу; только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам... «Ай! ай, ай!» — покрикивал только дед, ударив во всю мочь; и как добежал до попова огорода, тогда только перевел немного дух. «Куда это зашел дед?» — думали мы, дожидаясь часа три. Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. Нет да и нет деда! Стали опять вечерять сами. После вечери вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были гряды; как видит, идет прямо к ней навстречу кухва. На небе было-таки темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев, шаля, спрятался сзади и подталкивает ее. — Вот кстати, сюда вылить помои! — сказала и вылила горячие помои. — Ай! — закричало басом. Глядь — дед. Ну, кто его знает! Ей-Богу, думали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а, право, смешно показалось, когда седая голова деда вся была окутана в помои и обвешана корками с арбузов и дыней. — Вишь, чертова баба! — сказал дед, утирая голову полою, — как опарила! как будто свинью перед Рождеством! Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принес! — сказал дед и открыл котел. Что ж бы, вы думали, такое там было? ну, по малой мере, подумавши, хорошенько, а? золото? Вот то-то, что не золото: сор, дрязг... стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл. И с той поры заклял дед и нас верить когда-либо черту. — И не думайте! — говорил он часто нам, — все, что ни скажет враг Господа Христа, все солжет, собачий сын! У него правды и на копейку нет! И, бывало, чуть только услышит старик, что в ином месте неспокойно: — А ну-те, ребята, давайте крестить! — закричит к нам. — Так его! так его! хорошенько! — и начнет класть кресты. А то проклятое место, где не вытанцывалось, загородил плетнем, велел кидать все, что ни есть непотребного, весь бурьян и сор, который выгребал из баштана. Так вот как морочит нечистая сила человека! Я знаю хорошо эту землю: после того нанимали ее у батька под баштан соседние козаки. Земля славная! и Урожай всегда бывал на диво; но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец... черт знает что такое!Николай Васильевич Гоголь
Заколдованное место
Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви
Ей-богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит! Вот извольте видеть: нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет одиннадцать; так нет же, не одиннадцать: я помню как теперь, когда раз побежал было на четвереньках и стал лаять по-собачьи, батько закричал на меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома! тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак!» Дед был еще тогда жив и на ноги - пусть ему легко ткнется на том свете - довольно крепок. Бывало, вздумает…
Да что ж эдак рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что, в самом деле!.. Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать!
Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню только, два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою взял он трехгодового брата - приучать заранее чумаковать. Нас осталось: дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень; взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат. Ну, оно притом же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынею. Да из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее.
Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день возов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый: пойдет рассказывать - только уши развешивай! А деду это все равно что голодному галушки. Иной раз, бывало, случится встреча с старыми знакомыми, - деда всякий уже знал, - можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то да тогда-то, такое-то да такое-то было… ну, и разольются! вспомянут бог знает когдашнее.
Раз, - ну вот, право, как будто теперь случилось, - солнце стало уже садиться; дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днем, чтоб не попеклись на солнце.
Смотри, Остап! - говорю я брату, - вон чумаки едут!
Где чумаки? - сказал дед, положивши значок на большой дыне; чтобы на случай не съели хлопцы.
По дороге тянулось точно возов шесть. Впереди шел чумак уже с сизыми усами. Не дошедши шагов - как бы вам сказать - на десять, он остановился.
Здорово, Максим! Вот привел бог где увидеться!
Дед прищурил глаза:
А! здорово, здорово! откуда бог несет? И Болячка здесь? здорово, здорово, брат! Что за дьявол! да тут все: и Крутотрыщенко! и Печерыця и Ковелек! и Стецько! здорово! А, га, га! го, го!.. - И пошли целоваться.
Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? за россказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями. Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть), обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот.
Что же вы, хлопцы, - сказал дед, - рты свои разинули? танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка козачка! Фома, берись в боки! ну! вот так! гей, гоп!
Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая! теперь уже не пойду так; вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте: так, как будто их что-нибудь дергает.
Смотри, Фома, - сказал Остап, - если старый хрен не пойдет танцевать!
Что ж вы думаете? не успел он сказать - не вытерпел старичина! захотелось, знаете, прихвастнуть пред чумаками.
Вишь, чертовы дети! разве так танцуют? Вот как танцуют! - сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками.
Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетьманшею. Мы посторонились, и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однако ж до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, - не подымаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошел до середины - не берет! что хочь делай: не берет, да и не берет! ноги как деревянные стали! «Вишь, дьявольское место! вишь, сатанинское наваждение! впутается же ирод, враг рода человеческого!»
Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть; до середины - нет! не вытанцывается, да и полно!
А, шельмовский сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею! чтоб еще маленьким издохнул, собачий сын! вот на старость наделал стыда какого!..
И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего; назади, впереди, по сторонам - гладкое поле.
Э! ссс… вот тебе на!
Начал прищуривать глаза - место, кажись, не совсем незнакомое: сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть! да это голубятня, что у попа в огороде! С другой стороны тоже что-то сереет; вгляделся: гумно волостного писаря. Вот куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому ветру!» - подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка.
Вишь! - стал дед и руками подперся в бока, и глядит: свечка потухла; вдали и немного подалее загорелась другая. - Клад! - закричал дед. - Я ставлю бог знает что, если не клад! - и уже поплевал было в руки, чтобы копать, да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. - Эх, жаль! ну, кто знает, может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик! Нечего делать, назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после!
Вот, перетянувши сломленную, видно вихрем, порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть; мелькнул плетень. «Ну, так! не говорил ли я, - подумал дед, - что это попова левада? Вот и плетень его! теперь и версты нет до баштана».
Мистические мотивы – одна из самых сильных черт творчества Гоголя, который всегда подпитывал их фольклорными элементами. Его истории позиционируются не просто как деревенские легенды, но и как были. «Заколдованное место» – одна из таких историй, изложенная в формате повести. В каком точно году написал Гоголь «Заколдованное место», доподлинно неизвестно – как и у многих его произведений, рукопись этого не сохранилась. Опираясь на ряд фактов, в частности, на то, что она входит во вторую часть сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», исследователи его творчества датируют создание этой мистической сказки 1829-30 годами ориентировочно.
Рассказ ведется от первого лица, причем повествователь является не основным действующим лицом, поскольку в то время, когда все происходило, был он еще ребенком. Главный герой повести «Заколдованное место» – его дед Максим, которого черти запутали и заставили своими фокусами поверить в несуществующий клад. Однако клада никакого старик не нашел, несмотря на все свои усилия. Гоголь описывает своего персонажа с иронией – тот, несмотря на возраст, весел и лих, черта не боится, но при этом совсем не против неправедно нажитого (то есть не заработанного собственным трудом) богатства. Вот здесь и проявляется основная мораль.
«Заколдованное место» читать полностью нужно как минимум для того, чтобы понять – в жизни ничего не дается даром. Нечистая сила в данном случае выступает как элемент воспитательный. Вместо золота дед получает насмешку, а еще более смешными выглядят его попытки отомстить чертям, выбрасывая на заколдованное место всякий мусор. Остроумную историю, написанную Гоголем, сегодня можно скачать бесплатно или прочесть онлайн. Она вызывает такой же восторг, как и у его современников, среди которых были Пушкин, Белинский и Герцен. Все эти мастера слова высоко оценивали и текст, и посыл повести.
■
■
■
■
■
■
Эта повесть Николая Васильевича Гоголя относится к его ранним произведениям. Точной даты написания рукописи нет, но по подзаголовку и манере повествования, видно, что работал молодой писатель с этой историей в 1829-1830 годах.
В трёх своих повестях «Вечер накануне Ивана Купала», «Пропавшая грамота» и «Заколдованное место», которые вошли в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», литератор решил обратиться к сложной иерархичности. Он написал эти рассказы от лица дьячка, одной из церквей. В «Заколдованном месте» дьяк рассказывает не про себя, а про своего деда Максима, перенося слушателей в пору, когда ему самому было лет одиннадцать.
Такой манерой изложения событий автор смог добиться двойного эффекта. Во-первых, Николай Васильевич снял с себя всю ответственность за правдивость истории - он просто красиво описал рассказ дьячка местной церкви. Во-вторых, литератор акцентировал внимание на народности, полностью погружая читателя в крестьянскую жизнь.
В странное путешествие отправляет рассказчик своих читателей. В путешествие полное небылиц, от которого веет сказками и легендами. Фольклорные особенности, используемые Гоголем, делают народную фантастику лёгкой и непосредственной. А задорный юмор добавляет ярких красок.
Несмотря на то, что писатель с раннего детства приобщался к христианской вере, чему во многом способствовала его мать, и искренне веровал, он испытывал пристрастие к «страшилкам» и «ужастикам», которые мог слышать от старых людей, летом у костра, зимой под лучиной. Эта таинственность и потусторонность пугала и привлекала мальчика, а позже так красиво и талантливо выплеснулась в литературные шедевры.
Стиль произведения
Интрига, которую затеял Гоголь, полностью соответствует тем знаниям фольклора, к которым автор имел пристрастия с самого раннего детства.Мифотворчество многих народов фантазирует, и даже выдаёт за правду, поиски кладов. Часто эти клады ищут именно ночами, на кладбищах или вблизи кладбищ, где непременно появляются непонятные существа, пугающие всю округу и внешним видом, и странными звуками. Словно невидимые стражи, различные чудовища гонят соискателей богатств от охраняемых ими объектов.
Такие проклятые места лучше вовсе обходить ведь, как правило, участники поживиться задарма остаются не с чем и ели уносят ноги от проклятых мест. Народная мудрость будто подчёркивает, что неправедно добытое богатство не даёт ничего хорошего. Незаработанное не стоит трогать.
Все события происходят на Украине, поэтому писатель щедро усеял свой рассказ украинскими словами, которые вносят особый шарм в текст, написанный на русском языке. А мелодичность украинской речи, переданная русскими словами, только выиграла, размыв границы между двумя братскими народами.

Поскольку само повествование изложено в виде пересказа, Николай Васильевич, словно сняв с себя все обязательства, не стесняясь, чертыхается всю повесть. Но как искусно и с каким юмором: «Эй, Фома, Фома! тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак!», «Здорово, здорово, брат! Что за дьявол!», «Танцуйте, собачьи дети!», «А, шельмовский сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею!»
Гоголь преследовал цель погрузить своего читателя в атмосферу народной фантастики и лукавства. Чтобы каждый слушатель почувствовал себя причастным к действиям уже ушедших лет, словно сидя напротив самого дьячка.
Язык Фомы простой и понятный. Он не старается произвести впечатления на слушателей, и лукаво не мудрствуя, не без удовольствия, вспоминает своё беззаботное детство. Фразы которыми рассказчик выражает свои мысли, часто далеки от изысканности, но в том и есть вся прелесть сказанного.
Главный герой
Дед Максим - это персонаж, показанный автором с большой любовью. Бескорыстный, приветливый, с открытой душой крестьянин, умеющий работать и любить. Он сплошное очарование. А вся ирония, вложенная в этого героя абсолютно безобидна.
Весёлый, подвижный, трудолюбивый старик засеял баштан и теперь ухаживает за бахчевыми культурами, которые неплохо продаются или обмениваются. Сам хороший трудяга, дед Максим приучает к труду своих внуков. Дети выполняют на поле не сложную работу - гоняют воробьёв да ворон. И хотя старик постоянно называет их «собачьими детьми» всем понятно, что любит он их безмерно. Дети это чувствуют и не бояться подшучивать над пожилым родственником.
Он имеет много знакомств. Ведь каждый день встречает и провожает чумаков, проезжающих мимо его полей. От них он узнаёт новости, слушает рассказы, вспоминает былые времена.
Главный герой не только трудяга. Он и в отдыхе игрив. Подбивает внуков сплясать для проезжавших гостей, да и сам не может усидеть на месте, да так выплясывает, что ребятня посторонилась, уступив место деду.
Это смелый старик. Он не боится самого чёрта. Задумав раздобыть клад, запросто в одиночку отправляется на поиски. Не смущает его ни темень, ни призраки, ни странные звуки. Даже вдруг перепугавшись, решает все силы предложить для того, чтобы вытащить призрачный клад.
Старик беспредельно добр и щедр. Раздобыв котёл, в котором по его предположению должен был быть клад, он тащит его прямиком к своим внукам, даже предварительно не заглянув вовнутрь. Всё что он раздобыл первым делом принадлежит его сорванцам. Дед так и заявляет: «Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах!». Вот вся сущность этого старика.
Ну а то, что чёрт обманул деда, так что же? Старик вымыл руки и дал зарок больше не подаваться на подобные провокации, ещё и внукам завещал не верить чёрту: «все, что ни скажет враг Господа Христа, все солжет, собачий сын!»
Когда бы теперь старик ни услышал, что где-то неспокойно, сам крестится, вокруг кресты кладёт, да всех призывает следовать его примеру.
Заколдованное место

То место, которое старик называет заколдованным, в наши дни назвали бы аномальной зоной. Попадает в него герой совершенно случайно и понимает, что здесь двигаться невозможно - ноги перестают подчиняться.
Да и внутри этой зоны всё неладно. Пространство и время смещаются, искажаются. Место кажется одновременно знакомым и незнакомым, реальность стирает границы и ориентиры.
Любого может сковать страх, ведь у этого места есть особенности: то испортится погода, то опустится кромешная тьма, то почудятся различные чудовища со всех сторон.
Писатель интересно описывает нечисть, окружившую деда. Сначала невидимая чертовщина реагирует на табак, чихнув и забрызгав деда. После птичий нос, баранья голова, почему-то застрявшая на верхушке дерева и медведь, не подходивший, а только показывающий своё рыло, начали дразнить старика. Что он не скажет, так нечисть на разные лады всё повторяет. Даже мысли читает. Да ещё мерзостная рожа прямо из горы вырисовывается, огромная и страшная. Даже природа стала на сторону нечисти: снизу куча без дна, сверху гора свесилась, кажется сейчас рухнет, вокруг одни провалы.
Однако, старик не из робкого десятка. Даже испытывая страх, он не бросает свою находку. Он твёрдо решил, что уходить с пустыми руками не будет.
В итоге клад оказывается пустышкой. Вместо драгоценностей, искатель приключений принёс домой «сор, дрязг и стыдно сказать что такое».
После наблюдая за этим аномальным местом было замечено, что земля там не плодородит. Одним словом - нехорошее место.
Не нужно думать, что человек может совладать с нечистым духом. Если дьявольская сила решит обморочить человека, то обморочит. Так рассуждает церковный дьяк, который, будто в одолжение, готовится рассказать свою историю.
Дьячок рассказывает, что когда ему было лет одиннадцать, он с матерью, дедом и двумя братьями жил на хуторе. А отец с одним из четырёх детей, трёхлетним малышом, уехал в Крым - повёз на продажу несколько возов табаку. А кроху взял с собой приучать с малолетства чумаковать.

Дед, крепкий ещё старик, засеял баштан и привлекал внуков помогать ему. В обязанности детей входило гонять птиц с баштану. Все были довольны жизнью.
Мимо баштана проходила дорога, по которой только и ехали чумаки. Дед многих знал и любил послушать путников. Чего только не рассказывали мужики.
В один из вечеров проезжали чумаки на шести возах, и они оказались старыми знакомыми деда. Чумак с сизыми усами первый узнал деда Максима. А Максим стал всех называть по фамилиям, со всеми здороваться.
Все были рады такой встречи: покурили трубки, поели дыни. А после хозяин велел внукам станцевать для гостей. Да вскоре не выдержал и сам пустился в пляс.
Танцевал, танцевал и подошёл к одному месту возле грядки с огурцами. Остановился и стоит, ноги перестали слушаться. Отошёл - всё нормально, подошёл - снова ноги стали. Начал ругаться: «Вишь, дьявольское место! вишь, сатанинское наваждение!» - не помогло. Ноги словно врастают.
Услышал, что кто-то сзади смеётся. Обернулся, а рядом никого. Да и сам он стоит посреди голого поля. Стал всматриваться и понял, куда его нечистая сила занесла. Понял - к попу на огород. И другой стороны гумно волостного писаря. Не растерялся. Нашёл дорогу и пошёл домой.
Пока шёл, увидел, что где-то на могилке свет показался. Это была свечка. Вдруг одна свеча потухла, но поодаль сразу загорелась другая. Всё понятно - это клад! Только с собой нет лопаты. Решил путник пометить это место, чтобы в другой раз быстро найти. Положил большую ветку. Пришёл на баштан совсем поздно. Чумаки уехали, дети спали.
На следующий день взял и лопату, и заступ, пошёл к отмеченному месту за кладом. Но не мог долго найти нужный участок. Тут ещё и дождь припустил. Пришлось возвращаться. Долго старик чертыхался.
Прошли сутки. Пошёл дед прокопать новую грядку, да не смог пройти мимо заколдованного места - стал в самую середину. Плясать не стал, а просто воткнул в землю заступ и сразу оказался на позавчерашнем поле. Всё узнал вокруг: дорожку, могилку, свечку, ветку.
На могиле лежал большой камень, заросший травой. Но старик смог его убрать в сторону. Решил понюхать табаку. Только достал табак, как кто-то так чихнул, что дерево покачнулось. Дед подумал: «не любит, видно, черт табаку!» и поругал чёрта, что тот не отворачивается в сторону когда чихает.
Продолжил работу искатель клада и действительно наткнулся на котелок. «А, голубчик, вот где ты!» - сказал герой. И вдруг эту же фразу повторили птичий нос, находящийся возле котла, баранья голова, застрявшая в ветвях деревьев и медведь, оказавшийся у дерева. Каждую следующую фразу дублировали те же голоса.
Стало страшно. Ночь тёмная, ни звёзд, ни месяца. Да ещё какая-то харя показалась из темноты, словно прям из скалы. Огромные страшные черты лица не просто смотрели из темноты, рожа показывала язык, словно дразнилась. Решил дед бросить котелок и уйти поскорее. Но успокоился, и собравшись с силами всё же прихватил котелок.

Дело сделано, хотел старик понюхать табаку. Но только достал рожок, как стало что-то неладное происходить с пнём. Кажется старику, что пень пыхтит, показались у него уши, глаза, ноздри и он вот-вот чихнёт. Не стал Максим нюхать табак, не захотел снова быть оплёванным сатаной.
Схватил свою находку да и дал дёру, а сатана не отстаёт, словно прутьями чешет по ногам. Но и старик не сдаётся, бежит что есть мочи. Дух перевёл, только добежав к поповскому огороду.
Тем временем семья собиралась ужинать, а старика всё нет. Второй день поели сами. Тут мать пошла выливать помои и смотрит по дороге кто-то толкает бочку. Решила что это дети балуют и выплеснула туда помои. Оказалось это дед. Внуки рассмеялись, а старик поворчал на невестку.
С гордостью дед показал котелок и заверил детей, что теперь они будут ходить в золотых жупанах. Открыли котёл. А в котелке всякий мусор.
Разозлился старик на чёрта, который его обманул, обругал сатану. Место то заколдованное огородил забором и велел забрасывать его разным мусором с огорода. Даже когда сдавали эту землю в наём, и на всём участке был хороший урожай, на том заколдованном месте если что и вырастет, то и не разберёшь что: «арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец».
Анализ
Уникальность повести кроется в её народной самобытности. Жизнь простого украинского народа описана просто, без пафоса и преувеличений. Люди, о которых идёт речь, по большей части торговцы, по сути, бизнесмены, перевозящие различные товары. Автор их называет чумаками.Отец самого рассказчика с возами табаку уехал в Крым, а мимо полей главного героя в день проезжает до пятидесяти возов. Те же кто ведёт оседлый образ жизни тоже не бездельничают. Даже детей с малых лет готовятся ко взрослой трудовой жизни.
В этом произведении вся мистика и таинственность, так искусно описанная мастером слова, не имеет цели напугать читателя, а скорее показывает, что желание получить какие-либо богатства просто так, быстро и без особых усилий, не приводит к положительному результату. Можно сказать, что нечистая сила в этом рассказе выполняет роль поучительную.
Закономерность подобного финала обусловлена народными легендами и поверьями, где любители поохотится за сокровищами почти всегда остаются с пустыми руками.
Нельзя сказать, что рассказчик призывает своих героев к честному труду - они и так трудяги, работающие без выходных. Писатель просто усмехнулся, излагая историю о желании быстрого обогащения.
Критика

Как все истории из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки» повесть «Заколдованное место» была принята с восторгом.
Изумлённый Пушкин, восторженный Герцен, поэт Баратынский, пожелавший сразу же познакомиться с Гоголем, как только прочёл его творения - все были в восторге. Литераторы каламбурили и говорили, что с такой «весёлой весёлостью» автора ещё не было, что в их полку прибыло. Гоголь стал всеобщим любимцем, правда, постоянно скрывающимся за своими многочисленными псевдонимами.
Признанный критик Белинский отзывался тоже хорошо о произведениях Николая Васильевича. Но нужно сказать, что большинство текстов он понимал по-своему и от этого делал выводы, которые автора расстраивали. Интерпретация Белинского часто не совпадала с той смысловой нагрузкой, которую писатель вкладывал в свои изложения. Но подача материала всегда была оценена по высшему разряду.
Прошло более ста восьмидесяти лет. Но повесть не утратила своей популярности. Она воспринимается читателем так же открыто и весело. Современный читатель, кроме литературного удовольствия, может рассматривать изложение, как исторический источник информации.
Гоголь, как проводник, легко позволяет погрузиться в деревенскую атмосферу, давно ушедших дней. Повествование ярко передаёт незамысловатый крестьянский быт, где все заняты делом, где работа не является непосильной ношей, и все мужики выполняют её с удовольствием. Здесь же детвора набирается ума, поглядывая на старших родственников. Все выполняют посильную работу.
Из истории можно сделать вывод, что семьи часто вынуждены разлучаться - чумацкий шлях неспокойная деятельность. Но народ не унывает и сам себя развлекает. А поскольку грамотность была делом не распространённым среди мужиков и фольклор во многом заменял книги, неудивительно, что пересказы одних и тех же легенд приобретали новые вариации и становились новыми сказаниями.
Всё это Николай Васильевич вынес из своего детства и щедро поделился с нами, сдобрив всё хорошей порцией юмора.
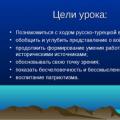 Презентация "Русско-турецкая война" по истории – проект, доклад
Презентация "Русско-турецкая война" по истории – проект, доклад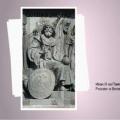 Презентация - Правление Ивана IV Грозного
Презентация - Правление Ивана IV Грозного Как написать роман или в помощь зрелому графоману
Как написать роман или в помощь зрелому графоману