«Журнальная критика» как отражение борьбы идей. Причины поражения восстания
Колониальная политика Российской империи в Северном Азербайджане. Комендантская форма правления
Северо-азербайджанские ханства по ходу завоевания их Россией и после него были постепенно ликвидированы. На их местах были созданы Бакинская, Губинская, Шекинская, Ширванская, Карабахская, Лянкяранская провинции, Елизаветпольский и Джаро- Балакенский округа, Казахская и Шамшадильская дистанции. Во главе каждого округа или провинции стоял комендант — русский офицер, поэтому такая форма правления вошла в историю как комендантская форма правления (военизированная система управления). Вводя такую систему в Азербайджане, Россия пыталась перечеркнуть традиции государственности, существовавшие здесь ранее.
Комендант обладал широким кругом полномочий, он не имел только права выносить смертный приговор. В его полномочия входило:
- дарить земельные наделы бекам или же отнимать у них земли;
- определять размеры государственных налогов и пошлин;
- отдавать в аренду нефтяные колодцы, соляные озера, рыбные промыслы и т.п.
Провинции делились на магалы, во главе которых стояли наибы — доверенные беки, назначаемые комендантом. Магальные наибы распределяли налоги между крестьянами, обеспечивали своевременное взимание пошлин, решали спорные вопросы. Крестьяне возделывали земли наибов, помогали и в сборе урожая.
На самой низкой ступени административной лестницы при комендантской форме правления стояли деревенские старосты (кентхуда) и сотники (юзбаши). Каждый кентхуда имел при себе несколько онбаши (десятники) и есаулов (стражников).
Как и магальные наибы, кентхуда не получали государственной зарплаты, а оставляли себе часть собранного с крестьян налога. Кентхуда отвечал за порядок в деревне, за выполнение повинностей, за сбор налогов деньгами, за сохранность дорог, мостов, оросительных каналов.
Суды (в Карабахе и Шеки — провинциальные суды, в Баку, Губе и Гяндже — городские суды) считались коллегиальными, но все решения самолично принимал комендант.
Тяжелые преступления рассматривал военный суд. Во главе духовного управления каждой провинции был поставлен главный кадий. Он занимался семейно-брачными вопросами, решал вопросы наследства и другие гражданские дела.
В 20-30-е годы XIX века нарушения при сборе налогов и исполнении повинностей в Южном Кавказе, бесконтрольность чиновников заставили правящие круги России направить сюда комиссию из высокопоставленных чиновников. В 1829-1830 годах сенаторы Р.И. Кутайсов и Ю.И. Мечников обнаружили в финансовоналоговой системе мусульманских областей многочисленные факты злоупотреблений. Сенаторы пришли в ужас от самоуправства комендантов.
Управление финансово-налоговой системой военными методами ввергло Северный Азербайджан в тяжелый колониальный гнет.
Массовое переселение армян в Северный Азербайджан
Массовое переселение армян из Османской империи и Ирана в оккупированные области Северного Азербайджана не было случайным. Еще в указе Петра I от 1724 года предусматривалось поселение армян на оккупированных территориях. Благоприятные условия для реализации петровского плана были созданы лишь в 20- 30-е годы XIX века.
После захвата Иреванского ханства в ходе второй русско- иранской войны (1826-1828 гг.) начали осуществляться меры по правовому обеспечению плана переселения. Армянский католикос Нерсес подготовил специальный проект реализации плана переселения, а посол России в Иране А.С.Грибоедов сыграл значительную роль в реализации этого проекта.
Благодаря стараниям А.С. Грибоедова и генерала И.Ф. Паскевича, при подготовке статей Туркменчайского договора был учтен вопрос переселения армян из Ирана в Азербайджан. С этой целью в Нахчыване, Карабахе и Иреване были созданы специальные комиссии по переселению. Были предусмотрены льготы для переселенцев. На шесть лет после переселения они были освобождены от всех налогов и повинностей. Армянам- переселенцам выдавали даже пособия из выплачиваемых Ираном репараций.
В 1828-1829 годах в Азербайджан из Ирана переселилось 40-50 тысяч, а из Турции — 90 тысяч армян.
Русский исследователь Н. Шавров в 1911 году писал, что из одного миллиона 300 тысяч армян, проживавших в Южном Кавказе, более одного миллиона человек не относятся к местному населению и переселены сюда русскими. За два послевоенных года 120 тысяч армян, переселенных из Ирана и Турции, получили часть земель, принадлежащих азербайджанским бекам, и 200 тысяч десятин казенных земель.
В результате процесса переселения в этническом составе регионов Нахчывана, Иревана и нагорной части Карабаха произошли существенные изменения. Только в Нахчыван переселилась 2.551 армянская семья.
С нарастанием процесса размещения армян на азербайджанских землях началось и вытеснение коренного населения с исконных мест проживания. Еще в начале этого процесса А.С. Грибоедов писал, что пройдет некоторое время и расселенные на азербайджанских землях армяне начнут доказывать, что это их земля, земля их предков. Наглые притязания армян на землю послужили поводом для стычек с коренным — азербайджанским населением. Со временем эти стычки переросли в вооруженное противостояние.
Расселение русских. Создание немецких колоний
Расселение русских колонистов на завоеванных территориях предполагалось осуществить поэтапно:
- на первом этапе планировалось создание хозяйств и военных поселений вокруг военных штабов;
- позже сюда стали переселять сектантов и еретиков;
- с превращением Южного Кавказа в колонию Российской империи большая часть русских колоний располагалась именно в Азербайджане.
Русские военнослужащие, завершившие срок службы, не желали оставаться на Кавказе, а хотели вернуться домой. Поэтому указ от 3 января 1821 года о создании хозяйств вокруг военных штабов так и не был реализован. Из-за срыва этого плана пришлось расселять на завоеванных территориях гражданское население.
Первые русские поселения в Северном Азербайджане были созданы в начале 1830-х годов. 20 октября 1830 года вышло государственное распоряжение о переселении в области Южного Кавказа сектантов и еретиков.
Главнокомандующий И.Ф. Паскевич распорядился поселить высланных русских сектантов на землях Карабаха. Около 30 из 34 русских сел, созданных на Южном Кавказе в 30-40-е годы XIX столетия, располагались на территории Азербайджана. Из 8600 сектантов и еретиков 7 тысяч поселились в Азербайджане.
Желая превратить этих сектантов в свою социальную базу, царизм перестал подвергать их религиозному преследованию и даже расширил их права. Расположение русских селений на территориях яйлагов и гышлагов нанесло значительный урон хозяйству местного населения.
Наполеоновские войны в Европе тяжело отразились на экономической жизни немцев, многих из них согнали с насиженных мест. Расселяя немцев в Азербайджане, царское правительство приводило довод, что переселенцы будут учить местное население трудолюбию и культуре земледелия. В 1817 году первая группа немцев прибыла на Кавказ. В 1817-1818 годах на Кавказе было основано 8 немецких колоний, из которых две — Еленендорф (в современном Ханларском районе) и Анненфельд (рядом с современным Шамкиром) были основаны в Азербайджане.
Социальный состав населения
Русско-иранская война стала причиной уменьшения численности населения в Азербайджане. По окончании войны хозяйственная жизнь Северного Азербайджана стала возрождаться и большая часть беженцев вернулась в родные края. К тому же переселенческая политика царизма (расселение армян, русских, немцев в Северном Азербайджане) сказалась на увеличении численности населения. Большая часть населения проживала в сельской местности. Городское население составляло 10% от общего числа проживавших в Азербайджане.
В 30-50-х годах XIX века социальный состав населения Северного Азербайджана был представлен правящей прослойкой (ханы, беки, агалары, султаны; духовенство — сеиды, кадии и т.д.), низшей прослойкой (раийяты, ранджбары, эляты и др.). Существовало и «третье сословие» — купцы и ремесленники.
Царское правительство всячески стремилось ослабить все еще значительный авторитет мусульманской знати, но учитывало их влияние на население. 13 июля 1830 года Николай I издал указ, по которому все высланные без суда за сопротивление российскому правительству и за политические воззрения теперь возвращались на места проживания, а конфискованные владения вновь возвращались хозяевам.
Важную роль в политике царизма играло духовенство. В 1829 году был создан комитет, определявший права и обязанности мусульманского духовенства. В Северном Азербайджане для ведения дел мусульман-шиитов была учреждена должность шейхульислама, для ведения дел мусульман-суннитов — должность муфтия.
В 1823-1852 годы пост шейхульислама занимал сальянский ахунд Мухаммед Али. Нижняя прослойка мусульманского духовенства (муллы, дервиши и др.) постепенно уменьшалась. К середине XIX века привилегированные слои составляли 5-6 процентов всего населения.
В 1836 году под давлением армянского духовенства официально был ликвидирован албанский католикосат.
В социальном составе населения Северного Азербайджана основное по численности место занимали крестьяне, составлявшие более 90% всего населения страны. В основном это были государственные крестьяне. Вторую группу феодально-зависимых крестьян составляли хозяйские крестьяне. Условно названные третьей прослойкой купцы и ремесленники проживали в городах
Экономическая политика Российской империи в Северном Азербайджане
После колонизации Северного Азербайджана Россией здесь сформировались две основные формы феодальной собственности на землю — казенная и частнособственническая. Вместе с новыми продолжали существовать и старые формы землевладения — тиюль, мюльк, мюльки — халисе и вакуф.
В новых условиях тиюльные земли по-прежнему выдавались за военные и гражданские заслуги, а также при условии преданности царскому режиму. Тиюль не был частной собственностью, но с учетом заслуг наследников мог передаваться из поколения в поколение.
Мюльк был формой феодальной земельной собственности. Мюльк можно было продать или подарить. Вакуф — земельная собственность духовных учреждений.
Крестьяне, проживавшие на государственных землях, составляли более двух третей от общего числа крестьян. Государственные раййаты выплачивали многочисленные подати и исполняли различные повинности.
С крестьян, проживающих на помещичьих землях, взималось до 35 различных выплат и податей.
Все крестьяне обязаны были выплачивать налог «бахра» за пользование водой. В сельском хозяйстве Северного Азербайджана основное место занимали земледелие и скотоводство.
Вырос интерес и к техническим видам агрокультуры. В связи с ростом потребности России в шелке-сырце в Нухинском, Шушинском, Шамахинском уездах, Джаро-Балакенском округе активно развивалось шелкопрядство.
Две трети производимого на Южном Кавказе шелка приходилось на долю Нухинского уезда. В распространении шелководства в Северном Азербайджане особая роль принадлежит учрежденному в 1836 году «Обществу распространения шелководства и торговой промышленности Южного Кавказа» и созданной в 1843 году в Нухе «Практической школе шелководства». Все тутовые сады Нухинского уезда, принадлежавшие казне, были бесплатно отданы в распоряжение «Общества».
В связи с возросшими потребностями московской ткацкой промышленности в 1840-1850 годах произошел скачок в производстве марены. Только в Губинской провинции было произведено 335 тысяч пудов марены. А интерес к хлопководству и производству шафрана существенно упал.
Производство части сельхозпродукции непосредственно для продажи способствовало переходу от прежней замкнутости к товарно-денежным отношениям. Это создало условия для перехода в 1852 году от натуральной подати к денежному налогу.
После войны возродились и отрасли ремесленничества: ковроделие, ткачество, гончарное дело, шелкомотание, металлообработка и др. Изделия карабахского и губинского ковроткачества — килимы, паласы, мафраши, хурджуны, хейба и др. пользовались большим спросом.
В Шуше, Гяндже, Нухе и Шамахе ткали шелковые ткани и келагаи. За исключением ковроткачества и шелкоткачества, остальные отрасли ремесла служили удовлетворению бытовых потребностей населения. В 1827 году в городе Нуха открылось предприятие мануфактурного типа — Ханабадская фабрика. В 1836 году Ханабадская мануфактура была передана учрежденному государством «Обществу распространения на Кавказе шелководства и торговой промышленности». Не только в Нухе, но и в других местностях и других отраслях промышленного производства стали возникать предприятия мануфактурного типа.
В Азербайджане мануфактура развивалась в условиях господства феодальных производственных отношений, но по тенденциям развития эти предприятия были истинно капиталистическими предприятиями.
В этот период для Азербайджана была характерна колониальная экономика (т.е. половинчатость, незавершенность цикла производства).
Вывоз российских товаров на периферию (в том числе и в Северный Азербайджан) тормозил производство аналогичных изделий на местах. В результате экономика развивалась однобоко.
В производстве пищевой продукции в Азербайджане особое место занимали рыбопродукты. В 1829 году все рыбные промыслы перешли в собственность государства, была учреждена коммерческая компания под названием «Сальянская казенная опека». Здесь работали наемные рабочие.
В сфере пищевой промышленности особо выделялась добыча пищевой соли: мелкого помола — в Джавадском уезде, на Абшероне, и каменной соли — в Нахчыване.
В 30-50-х годах возрос интерес к богатствам земных недр. Отдача нефтяных промыслов под откуп продолжалась. Откупная система тормозила развитие добычи нефти, соли, квасцов и др. полезных ископаемых. Арендаторам было невыгодно завозить новую технику. Отрицательно сказывалось на результатах производства и использование принудительного труда крестьян. В 1848 году на Биби-Эйбате близ Баку техник Ф.А. Семенов пробурил первую в мире нефтяную скважину.
В 30-50-е годы XIX века стала развиваться и горная промышленность. В 1855 году в Гядабее был построен небольшой медеплавильный завод.
Существование в стране различных мер веса, длины, денежных систем, а также нестабильность торговой и таможенной политики царизма на Южном Кавказе отрицательно влияли на развитие торговли Северного Азербайджана. Однако постепенно препоны на пути развития торговли устранялись. Чтобы ввести в Азербайджане российскую денежную систему, стали выводить из обращения местные, иранские и турецкие деньги. В результате денежной реформы 1839-1843 годов старые ассигнации были заменены серебряными монетами. Началось внедрение российских единиц меры и веса.
С 8 октября 1821 года царским рескриптом были введены льготные торговые тарифы. По этим тарифам таможенная пошлина взималась лишь с пяти процентов ввозимых иностранных товаров. После этого торговля в Северном Азербайджане расцвела. Но изделия российских ткацких фабрик создавали серьезную конкуренцию, поэтому в июне 1831 года был введен новый тариф (“запретный тариф”), по которому европейские товары облагались высоким налогом. В целом Южный Кавказ оказался закрыт для качественных европейских товаров. Российская ткацкая промышленность избавилась от международной конкуренции. 6 июня 1836 года по царскому указу были ликвидированы и внутренние пошлины — «рахдар». В результате этих мероприятий внутренняя торговля в Азербайджане расширилась.
В торговле Азербайджана с Россией большую роль играл город Баку. Постепенно Азербайджан превратился в источник сырья и рынок сбыта для российской промышленности.
Таким образом, в 30-50-х годах XIX века в Северном Азербайджане возрос объем товарной продукции, произошел рост товарного капитала, расширились товарно-денежные отношения.
Восстания против российского колониализма
В результате заключения Гюлистанского и Туркменчайского договоров Южный Азербайджан достался Ирану, а Северный Азербайджан стал колонией России. В конце 20-х — начале 30-х годов XIX века положение населения Северного Азербайджана резко ухудшилось, и в 30-х годах началась серия восстаний. Причинами недовольства были:
- национальный и религиозный гнет;
- сбор тяжелых налогов и исполнение повинностей в пользу казны и крупных феодалов;
- самоуправство и взяточничество царских чиновников;
- переселенческая политика (переселение армян, русских, немцев);
- замена натуральной подати денежным налогом.
Экономические, политические и административные мерыкомендантской системы переполнили чашу народного терпения. Большинство восстаний, происшедших в 30-е годы XIX века, возглавлялись бывшими ханами, беками, крупными феодалами и духовенством, подвергшимся разорениям и унижениям, чинимым царскими чиновниками. Направленные против колониального гнета царизма, эти восстания длились с перерывами 10 лет.
Джаро-Балакенское восстание
В 1830 году в Джаро-Балакенских джамаатствах, имеющих большое военно-стратегическое значение и состоявших из 6 общин, все еще сохранялась внутренняя автономия. Царизм имел целью ликвидировать внутреннюю автономию, а затем использовать эту область в качестве военного опорного пункта для подавления национально-освободительного движения горцев. Совершенно неожиданно для местного населения в феврале 1830 года генерал И.Ф. Паскевич ввел войска в Джаро-Балакен. Перед началом наступления он обратился к местному населению с воззванием на азербайджанском языке. Скрывая истинные намерения, он заявил, что джамаатство будет теперь управляться на основе новых «Правил», отличных от «Клятвенного обязательства» 1803 года. Теперь джамаатство будет возглавлять Временное управление, состоящее из 9 человек, включая начальника управления, двух полномочных чиновников, назначаемых самим Паскевичем, и шестерых представителей, избираемых местным населением. Фактически все властные полномочия были сосредоточены в руках начальника и двух чиновников. Шестеро избранных народом представителей не обладали никакими правами. Это означало, что джамааты теряли свою внутреннюю автономию и превращались в обычные крестьянские собрания.
24 февраля 1830 года русские войска перешли реку Алазань и 3 марта вошли в Джар. На основе новых «Правил» было создано Временное управление и был положен конец Джаро-Балакенской внутренней автономии. Вследствие этого в 30-х годах XIX века первое восстание в Азербайджане против колониального гнета царизма произошло в Джаро-Балакене.
Главные причины восстания в Джаро-Балакене:
- применение новых «Правил» в управлении областью;
- усиление колониального режима;
- сбор недоимок за прошлые годы;
- ликвидация внутренней автономии и т.д.
Одним из главных факторов, давших толчок восстанию, стала национально-освободительная борьба горцев против царизма и призыв Шейха Шабана к населению джамаата присоединиться к этой борьбе.
После некоторой подготовки восстание началось 12 июня. Первое столкновение завершилось победой русских войск. По приказу русских генералов начался сбор налоговых недоимок за прошлые годы, а также была введена трудовая повинность на работы по строительству Загатальской крепости. Такие действия вызвали еще большее возмущение народа новыми властями. В сентябре в Джар из Дагестана прибыл Гамзат бек с двумя тысячами всадников. К нему присоединились вооруженные отряды дагестанских феодалов. Перевес сил оказался на стороне восставших. Захватив вскоре
Катех, повстанцы прервали связь русских войск в крепости Ени Загатала с Балакеном. В октябре повстанцы добились новой победы и полностью завладели Джарской областью. Для подавления восстания царские офицеры — подкупили Шейх Шабана и Гамзат бека. После того как горцы ушли, восставшие утратили единство.
14 ноября русские войска контратаковали и захватили Джар, Кехне Загатала, Гойем. 32 руководителя восстания были преданы военному суду. В декабре того же года в Балакене вновь началось восстание, которое русские войска жестоко подавили.
Причины поражения восстания:
- предательство лидеров восстания;
- восставшим противостояли регулярные войска;
- у восставших не было боевого опыта;
- восставшие были плохо вооружены и т.д.
Лянкяранское восстание
После ликвидации Лянкяранского ханства в 1826 году по новому административному делению земли ханства стали провинцией. В отличие от других провинций в Лянкяране (Талыше) было мало пригодных для возделывания земель. Множество налогов и повинностей, малоземелье, алчность сборщиков налогов и чиновников, гнет комендантского управления и в целом колониальное иго довели население до крайней черты.
Бывший хан Лянкярана — Мир Гасан хан, желая вернуть свои владения, которые присвоил комендант Ильинский, 5 марта с 30 всадниками перешел реку Астару и начал продвигаться в направлении Талышских гор. Крестьяне в надежде на улучшение своей участи примкнули к нему. В рядах восставших были представители всех социальных слоев.
Конный отряд, составленный из жителей Эрчиванского магала, 10 марта присоединился к восставшим. Число повстанцев перевалило за две тысячи.
Основная часть русской армии на Кавказе была вовлечена в бои с горцами, поэтому в Лянкяранской крепости находился всего один пехотный батальон. Это увеличивало шансы восставших на победу.
12 марта повстанцы атаковали царских солдат в крепости. Паскевич направил сюда из соседних провинций 5-тысячное войско. Когда Мир Гасан хан с восставшими добрался до окраины города, его встретили регулярные воинские части численностью до 500 человек с двумя пушками. Попытка восставших захватить крепость окончилась неудачей. После этого часть повстанцев во главе с ханом отошла к селению Селеш, остальные — к селению Бадалан. Когда в начале апреля русские войска вытеснили Мир Гасан хана из селения Селеш, большинство беков и кентхуда, а также часть крестьян покинули ряды восставших.
22 апреля русские войска атаковали последнее убежище восставших — Эмбуран. Паскевич обещал полное прощение всем, кто сложит оружие. Поэтому многие подчинились и прекратили борьбу. 5 мая Мир Гасан хан и 20 его сторонников вернулись в Иран. Длившееся два месяца Лянкяранское (Талышское) восстание закончилось поражением.
Главные причины подавления восстания:
- неорганизованность движения;
- предательство беков, духовенства и других представителей правящих кругов;
- Мир Гасан хан не смог в должной мере использовать свое влияние и возможности;
- в решающие моменты восставшие медлили и упускали свой шанс;
- повстанцы были плохо вооружены по сравнению с регулярной армией;
- повстанцы быстро потеряли веру в победу.
Губинское восстание
Самым мощным из выступлений 30-х годов было Губинское восстание. Причины восстаний в Джаро-Балакене и Лянкяране были те же, что вызвали Губинское восстание. Одной из основных причин восстания в Губинской провинции было применение системы откупов.
Поводом для начала восстания была весть о наборе всадников в мусульманский кавалерийский полк, дислоцированный в Варшаве. 38 всадников должны были за счет населения вооружиться, купить лошадей, одежду. Эта весть разнеслась по всем магалам. Собравшиеся в деревне Гюндюзгала беки и кентхуды выдвинули властям ряд требований:
- прекратить набор всадников в провинции;
- уменьшить число государственных повинностей;
- коменданта Гимбута и его ближайших сподвижников — Джафаргулу ага Бакиханова, Мухаммед хана Алпанского из провинции удалить и т.п.
С выдвижения этих условий в апреле 1837 года и началось Губинское восстание. На первом этапе, с целью выиграть время, правительство удовлетворило все требования крестьян, кроме уменьшения податей и повинностей.
Второй этап восстания начался в августе — сентябре 1837 года. Шейх Шамиль послал руководителям восстания — Гаджи Мухаммеду, Ильяс беку, Хуршуд беку, Гасан беку и другим письмо с призывом взяться за оружие. Этот призыв достиг цели. 20 августа в селении Хулуг на свадьбе сына Гаджи Мухаммеда было решено начать восстание, Гаджи Мухаммед был избран вождем восставших. Его помощником стал Ярали.
Восставшие убили в селении Ясан Апипашу ага Бакиханова — порученца исполнявшего обязанности коменданта Ищенко. Число восставших превысило 12 тысяч человек. В отличие от других восстаний здесь был создан Военный совет для подготовки плана штурма крепости. По плану было создано три штурмовых отряда по 4 тысячи человек в каждом. Движущими силами восстания были крестьяне, горожане, недовольные политикой правительства беки, наибы и кентхуды.
Действующие по плану повстанцы в ночь с 4 на 5 сентября атаковали город Губу. Возглавляемая Ярали тысяча повстанцев захватили здание суда. В рядах горожан, примкнувших к восставшим, были и женщины. 10 сентября русское войско перешло в контрнаступление, повстанцы потерпели поражение. Поражение вызвало недоверие к лидерам восстания, крестьяне и беки отошли от Гаджи Мухаммеда. Бывший его соратник Мухаммед Мирза Казикумухский предательски выдал властям Гаджи Мухаммеда и его сына. Число повстанцев сократилось до минимума. Ярали и 6 человек из числа руководителей восстания ушли в горы и там продолжали борьбу.
Для выяснения причин восстания правительство направило в Губу графа Васильчикова. В Баку был создан военно-полевой суд, по решению которого 37 человек подверглись жестоким наказаниям. Гаджи Мухаммед был казнен, его сын Новруз был выслан в Калугу, а остальные — в Сибирь. В 1838 году русский горный экспедиционный корпус в местечке Аджыахур разгромил силы восставших.
Руководители движения, в том числе Ярали, принесли клятву верности России и, выплатив штраф, избежали наказания. Часть повстанцев укрылась в горах. Причины подавления Губинского восстания совпадают с причинами поражения других восстаний.
Шекинское восстание
Одно из восстаний 30-х годов произошло в 1838 году в Шеки. В 1835 году верховный судья Кавказа барон Розен распорядился обложить налогом и маафов, ранее освобожденных от налогов и повинностей, что вызвало возмущение населения. Хотя Розен и отменил свое распоряжение, но маафы остались недовольны правительством. 1837 году в Шеки прибыл Мешади Мухаммед по поручению сына Селим хана Гаджи хана. Представившись наследником хана, он начал агитацию против царизма, за что и попал в тюрьму. Летом 1838 года Мешади Мухаммед бежал из заключения в Дагестан, где собрал отряд в 5 тысяч человек. В августе 1838 года повстанцы вступили в Шекинскую провинцию. К ним присоединилась городская беднота. Имея превосходство, восставшие захватили весь город Шеки, кроме крепости. В Шеки стали прибывать дополнительные отряды русских войск из других провинций. 3 сентября восставших вытеснили из Шеки. Как и другие восстания, Шекинское восстание 1838 года было подавлено.
Несмотря на поражения, восстания 1830-х годов, они сыграли свою роль. Под их воздействием в 40-х годах XIX века были проведены административная, судебная и аграрная реформы.
Реформы 40-х годов XIX века
Несмотря на восстания 30-х годов, породившие их социально- экономические и политические причины продолжали существовать. Царь Николай I после длительных обсуждений одобрил проект отмены комендантской формы правления и проведения административно-судебной реформы.
10 апреля 1840 года был издан закон об административной и судебной реформе на Южном Кавказе, по которому были созданы губернские, областные и окружные суды. Шариатские суды занимались только бракоразводными вопросами и делами наследства. Окружные суды состояли из судей и заседателей, представляющих налогоплательщиков. Теперь уголовные дела рассматривались не военными, а гражданскими судами.
По закону 10 апреля 1840 года, с 1 января 1841 года комендантская форма правления была ликвидирована. Южный Кавказ был разделен на Грузинско-Имеретинскую губернию с центром в Тифлисе и Каспийскую область с центром в Шамахе. Губернии и области делились на уезды, а уезды на участки. Магалы были упразднены. Беки — бывшие магальные наибы — были отдалены от административного управления. Новое административное деление нарушило исторически сложившиеся традиционные границы Азербайджана. На всех ступенях административного и судебного управления азербайджанские чиновники были заменены русскими.
Высшая власть на Кавказе принадлежала главноначальствующему, который возглавлял Главный совет управления. Совет обладал правом контролировать административные, судебные и другие вопросы.
25 апреля 1841 года царь подписал указ, по которому агалары Газаха, Шамшадиля и Борчалы, а 28 мая и беки Каспийской области лишились своих тиюльных земель.
Потерявшие земли беки становились врагами царизма, присоединялись к вооруженным отрядам народа.
Для ознакомления с ситуацией на Кавказе Николай I направил сюда военного министра графа Чернышева и председателя Кавказского комитета Позена. Встретившись с представителями местного населения, они убедились на основе неопровержимых фактов, что при подготовке проекта реформ не были учтены местные обычаи и традиции и что реформы обречены на провал.
По итогам этой ревизии, в 1842 году изъятие земель беков и агаларов было приостановлено, земельная собственность была объявлена неприкосновенной и под председательством военного министра был создан Особый комитет.
В 40-е годы в Северном Азербайджане в ряде участков и уездов (Шамшадиль, Борчалы, Газах, Елизаветполь, Шуша, Нуха, Губа и т.д.) произошли крестьянские выступления против колониального гнета царизма. Но это лишь усилило тенденцию сближения правительства с местными феодалами.
Административная и судебная реформы 40-х годов не дали желаемого результата. В 1844 году верховная власть перешла к наместнику на Кавказе. Вся военная и гражданская власть принадлежала ему. Наместник отчитывался только перед царем. Первым наместником царя на Кавказе был граф С.М. Воронцов.
В 1846 году были упразднены Грузинско-Имеретинская губерния и Каспийская область. Вместо них были созданы Тифлисская, Кутаисская, Шамахинская и Дербендская, а в 1849 году и Иреванская губернии.
Едва приступив к исполнению должности наместника, Воронцев занялся проблемой земельных прав беков и агаларов. После двухлетних обсуждений 6 декабря 1846 года Николай I подписал рескрипт о правах беков и агаларов. Из 12 статей этого рескрипта 10 были посвящены земельному праву беков, и только две статьи — отношениям между землевладельцами и крестьянами.
Впервые было подтверждено право беков и агаларов на наследственное владение землей. Собственностью беков и агаларов официально признавались не только мюльки и мюльки-халисе, но и тиюли. Беки и агалары вольны были распоряжаться своей землей, но продавать или дарить ее могли только представителям своего сословия. «Высшее мусульманское сословие» Северного Азербайджана по своим земельным правам было уравнено с российским дворянством, но политических и управленческих прав не получило. В своем отношении к дворянскому сословию царизм делал различия по национальному и религиозному признакам.
Царский рескрипт предоставлял бекам и агаларам право осуществления полицейских функций среди крестьян.
Рескриптом от 6 декабря 1846 года правительство сделало важный шаг по укреплению союза с местными феодалами. Учрежденное на основании указа Николая I от 10 марта 1843 года «высшее мусульманское сословие» приблизилось к центральной власти.
Главная суть рескрипта была выражена в его заключительной части, где предписывалось высшему мусульманскому сословию по первому призыву являться в армейские ряды. Деление крестьян на раййятов, ранджбаров, элятов и нукеров отменялось. Все они теперь получили одно наименование — мюлькядар табелиси.
«Поселянские положения» 1847 года.
Основные пункты «Поселянских положений», изданных 20 апреля 1847 года и касающихся крестьян Шамахинского, Шушинского, Нухинского, Лянкяранского, Бакинского и Губинского уездов, и изданных 28 декабря 1847 года и касающихся Казахского, Шамшадильского и Борчалинского участков, гласили:
- Каждому крестьянину мужского пола, достигшему 15 лет, полагалось получить в пользование 5 десятин плодородной земли.
- В качестве платы крестьянин обязан был отдавать владельцу земли в виде налога малджахат десятую часть урожая зерновых и одну треть урожая фруктов и овощей.
- Если крестьянин обрабатывал землю при помощи тяглового скота и земледельческих орудий, принадлежащих беку, то малджахат определялся в количестве одной пятой части урожая.
- За пользование бекским пастбищем крестьяне обязаны были платить особый сбор — чепбаши.
Согласно «Положениям», для выполнения работ в доме бека каждые 10 домов выделяли одного мужчину, каждые 15 домов — одну женщину. Работа женщин в качестве служанок вызывала особое недовольство крестьян, и скоро это правило отменили.
Каждая крестьянская семья выделяла одного мужчину для работы в хозяйстве бека на срок не более 18 дней. Все крестьяне селения должны были два дня в году сообща выходить на эврез (субботник) на хозяйственные работы у землевладельца.
Крестьяне, проживавшие на частных землях, имели право перехода к другому владельцу.
«Положения» предоставляли феодалам полицейскую и судебную власть над крестьянами.
Государственные крестьяне
В Азербайджане существовали две категории крестьян: государственные и помещичьи. Большинство крестьян жили на государственных землях. Раньше крестьяне обладали правом переселения из одного места в другое. В 1853 году государство ликвидировало это право, но это не помешало процессу переселений. По новой налоговой системе, введенной в Северном Азербайджане с 1852 года, государственные крестьяне должны были выплачивать налоги казне не натурой, а деньгами. Поэтому новая налоговая реформа осложнила положение крестьян.
Южный Азербайджан в 30-50-е годы XIX века.
Социально-экономическое положение. В 30-50-е годы XIX века основу хозяйства в Южном Азербайджане составляли скотоводство и земледелие. Используя искусственное орошение, выращивались как зерновые, так и технические культуры (хлопок, табак). В социально-экономической жизни городов важную роль играло ремесло. Завозившаяся из Европы готовая продукция наносила урон ткачеству, но такие отрасли, как производство ковров и войлочных изделий, не имели конкуренции и развивались по рыночном законам.
В городах Южного Азербайджана получили развитие и предприятия мануфактурного типа. В расширении торговых связей с Азией города Южного Азербайджана (Тебриз, Марага, Урмия и др.) играли значимую роль. Европейские компании открыли в Тебризе свой торговый центр. Около половины всех товаров, вывезенных в 1833-1851 годах из Тебриза, было экспортировано в Россию.
Общественно-политическое устройство
В середине XIX века в Южном Азербайджане продолжали существовать феодальные отношения. Основную часть населения страны составляли крестьяне. В середине XIX века существовали следующие формы земельной собственности: тиюль, мюльк, илати, вакуф, хырдамалик и т.д. Тиюльные земли были пожалованы за гражданские или военные заслуги, продавать или дарить эти земли было нельзя.
Земли илати (элятские земли) выделялись шахом всему племени, ведущему оседлый или полукочевой образ жизни, за военные заслуги перед государством.
Мюльк — земля, находящаяся в частной собственности феодала.
Вакуф — форма земельной собственности духовных учреждений.
Хырдамалик — собственная земля небольшой части крестьян Южного Азербайджана.
Крестьяне, как правило, в соответствии с условиями производства, более половины полученного урожая отдавали хозяину земли в качестве ренты и государству в качестве налога.
Привилегированную часть населения городов составляли аяны и ашрафы. Налог государству платили лишь ремесленники и торговцы, которые объединялись в союзы (гильдии). Самый богатый и уважаемый из купцов возглавлял союз и носил звание меликюттюджара.
После заключения Гюлистанского договора Южный Азербайджан превратился в одну из четырех областей Ирана. В Южном Азербайджане был ликвидирован целый ряд ханств, за исключением могущественных ханств Маку, Урмии, Намине, Гергере, сохранивших свою внутреннюю независимость. На месте бывших ханств были созданы провинции.
В период правления династии Каджаров Южному Азербайджану уделялось особое внимание. Со времен Фатали шаха (1797-1834 гг.) Южный Азербайджан называли «валиахднешин» (место нахождение наследника), а Тебриз — «дарюс-салтане» (резиденция наследника).
Движение Бабидов
В середине XIX века политическое и экономическое положение Южного Азербайджана, самоуправство государственных чиновников продолжали ухудшать жизнь простых людей, купцов и ремесленников. Эти факторы привели к массовым волнениям в стране.
Основой народного движения стало учение секты бабидов во главе с Сеид Али Мухаммедом. Основные цели Баба были изложены в его произведении «Баян», где нашли отражение мечты купцов, ремесленников и крестьян. Движение бабидов было направлено против феодалов, высшего духовенства и иностранного капитала. По учению Баба, для избавления от гнета феодалов и иностранного капитала настала пора явиться имаму Мехти. Сеид Али Мухаммед поначалу объявил себя посредником имама Мехти. В учении Баба провозглашалось равенство мужчин и женщин. Эта идея привлекла к участию в движении множество женщин. Дочь муджтахида Казвина Зарринтадж была активисткой этого движения. Последователи Зарринтадж называли ее Гюрретулейн (Свет очей), а народ называл ее Тахирой (Чистейшая из чистых). В 1852 году ее тайно убили сторонники иранского правительства. Движение бабидов, охватившее 1848-1852 годы, достигло своего пика в Зенджане. В 1850 году повстанцы заняли городскую крепость. В восстании участвовали и семьи бабидов. Но Зенджанское восстание под руководством Моллы Мухаммеда в декабре 1850 года было подавлено.
Восстание бабидов было одним их первых вооруженных выступлений накануне перехода Ирана от феодализма к капитализму.
30-е годы 19 века – особенный период в развитии русской литературной критики. Это время расцвета так называемой «журнальной критики», эпоха, когда критика как никогда ранее плотно переплелась с литературой. Именно в эти годы активизировалась общественно-политическая жизнь, а в сугубо дворянскую литературу стали проникать произведения либерально и демократически настроенных писателей низших сословий.
В литературе, несмотря на зарождающийся реализм ( , ) , продолжал удерживать твердые позиции Но он уже не представляет собой единое монолитное течение, а разделяется на множество течений и жанров.
Продолжают творить декабристы-романтики А. Бестужев, А. Одоевский, В. Кюхельбекер, поэты пушкинского круга (Е. Баратынский, П. Вяземский, Д. Давыдов). М. Загоскин, И. Лажечников, Н. Полевой выступают с блестящими историческими романами, имеющими ярко выраженные романтические черты. Такую же романтическую направленность сохраняют исторические трагедии Н. Кукольника («Торквато Тассо», «Джакобо Санназар», «Рука Всевышнего отечество спасла», «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» и др.), получившие высокую оценку самого императора Николая I. В 1830-е годы расцветает талант , навсегда вошедшего в русскую литературу как одного из самых «неистовых романтиков» 19-го века. Все это требовало своего осмысления на страницах критических изданий.
«Журнальная критика» как отражение борьбы идей
Эпоху 30-х годов 19 века также иногда называют эпохой борьбы идей. Действительно, восстание декабристов в 1825 году, борьба «западников» и «славянофилов» на страницах литературных альманахов и журналов заставили общество по-новому взглянуть на традиционные проблемы, подняли вопросы национального самоопределения и дальнейшего развития российского государства.
Обложка журнала «Северная пчела»
Декабристские журналы – «Полярная звезда», «Мнемозина» и ряд других – по понятным причинам прекратили свое существование. Прежде достаточно либеральный «Сын Отечества» Н. Греча сблизился с официозной «Северной пчелой»
Сделал крен в сторону консерватизма под редакторством М.Каченовского и авторитетный журнал «Вестник Европы», основанный Н. Карамзиным.
Обложка журнала «Вестник Европы»
Основная цель журнала была просветительская. Он состоял из 4 крупных разделов:
- науки и искусства,
- словесность,
- библиография и критика,
- известия и смесь.
Каждый раздел давал читателям массу разнообразнейших сведений. Критика занимала принципиальное значение.
Историю издания «Московского телеграфа» принято разделять на 2 периода:
- 1825-1829 годы – сотрудничество с дворянскими писателями-либералами П. Вяземским, А. Тургеневым, А. Пушкиным и др.;
- 1829-1834 годы (после публикации карамзинской «Истории государства Российского) – выступления против «засилия» дворян в культурной и общественной жизни России.
Если в первый период «Московский телеграф» выражал концепции исключительно , то в 40-е годы в творчестве Ксенофонта Полевого проявились зачатки .
Критическая деятельность Николая Полевого
Н. Полевой в отзыве-рецензии на 1 главу «Евгения Онегина» (1825), на книгу А. Галича «Опыт науки изящного» (1826) отстаивает идею творческой свободы поэта-романтика, его право на субъективность творчества. Он критикует взгляды и пропагандирует эстетические воззрения идеалистов (Шеллинга, братьев Шлегелей и др.).
В статье «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах» (1832) Н. Полевой трактовал романтизм как радикальное, «антидворянское» направление в искусстве, противопоставленное классицизму. Классицизмом он называл античную литературу и подражания ей. Романтизм для него – современная литература, идущая корнями от народности, т.е. верного отражения «души народа» (самых высоких и чистых устремлений народа), и «истины изображения», т.е. яркого и подробного изображения страстей человека. Николай Полевой провозгласил концепцию гения как «идеального существа».
Подлинный художник – это тот, в чьем сердце горит «небесный огонь», кто творит «по вдохновению, свободно и бессознательно».
В этих и последующих статьях нашли свое отражение основные методы критического подхода Н. Полевого – историзм и стремление к созданию всеобъемлющих концепций.
Например, в статье «Баллады и повести » (1832), отзывах на творчество Г. Державина и А. Пушкина критик дает подробный исторический анализ творчества поэтов, рассматривает их произведения в связи с фактами их биографий и потрясениями общественной жизни. Основным критерием творчества поэтов становится соответствие их произведений «духу времени». Цикл этих статей, опубликованных в «Московском телеграфе», стал первым опытом построения единой концепции развития отечественной литературы в русской критике.
Закрытие «Московского телеграфа»
Однако следование принципу историзма в итоге послужило причиной закрытия журнала. В 1834 году Н. Полевой выступил с рецензией на драму Н. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла».
Будучи последовательным в своих суждениях, критик пришел к выводу, что в драме
«нисколько и ничего нет исторического - ни в событиях, ни в характерах <…> Драма в сущности своей не выдерживает никакой критики».
Его мнение не совпало с восторженным откликом на пьесу императора Николая I. В итоге публикация рецензии послужила официальным поводом для закрытия журнала.
Потрясенный закрытием «Московского телеграфа», Н. Полевой сменил место жительства с Москвы на Петербург и примкнул к реакционной критике в лице Греча и Булгарина. До конца критической карьеры Полевой остался верен принципал романтизма. Поэтому появление произведений в стиле гоголевской «натуральной школы» вызвало в нем их ярое неприятие.
Критическая деятельность Ксенофонта Полевого

В 1831-1834 годах Ксенофонт Полевой, младший брат Николая Полевого, фактически взял в свои руки руководство журналом. Он пишет статьи о творчестве Грибоедова, лирике Пушкина и поэтов пушкинского круга, исторических трагедиях (в частности, трагедии А. Хомякова «Ермак»), повестях М. Погодина и А. Бестужева, романтических романах В. Скотта и его подражателей.
В статье «О русских романах и повестях» (1829) критик говорит о крене русской литературы в сторону прозы. Он связывает это с растущей популярностью романов В. Скотта и других западных романтиков. В то же время Ксенофонт Полевой выступал против «экзотичности» в повестях и романах, призывая описывать «острую современность». Под его критическое перо попадали Пушкин с его сказками и Жуковский с романтическими балладами.
Но главная заслуга Ксенофонта Полевого в том, что в своих выступлениях, размышляя о различиях между литературными «партиями», он ввел понятие « литературного направления». Литературным направлением Полевой именовал то «внутреннее стремление литературы», которое позволяет объединять несколько произведений по какому-либо ведущему признаку. Критик отмечал, что журнал не может быть выразителем идей различных авторов –
Вам понравилось? Не скрывайте от мира свою радость - поделитесьон «должен быть выражением одного известного рода мнений в литературе» («О направлениях и партиях в литературе», 1833).
Поколение 30-х годов XIX века в лирике М. Лермонтова
Печально я гляжу на наше поколенье!
М. Лермонтов, «Дума»
Стихотворения 30-х годов XIX века - это дальнейшее развитие Лермонтовым гражданской лирики.
Поэт приходит к убеждению, что сао общество ответственно перед будущими поколениями за бесцельность жизни, которой оно живет. В стихотворениях этих лет отражаются очень важные для Лермонтова в последние годы его жизни и творчества проблемы борьбы за духовные ценности, проблемы поведения человека, его убеждений. Поэт хоет найти выход из противоречий окружающей его жизни. Он перестает находить удовлетворение в исповеди, в изображении субъективных чувств; свои сокровенные переживания он передает как обобщение явлений и мыслей не одного человека, а многих.
Еще в юношеском стихотворении «Монолог» (1829) Лермонтов точно определил сущность трагедии лучших людей своего времени - невозможность в современных условиях найти применение лучшим человеческим стремлениям:
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Подавленное душевное состояние Лермонтова объясняется общественной атмосферой:
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует…
В двух тесно связанных между собой стихотворениях «Бородино» (1837) и «Дума» (1838) Лермонтов обратился к проблеме активного служения обществу и поставил вопрос о деятеле, достойном этой высокой цели.
В первом из этих стихотворений поэт воплотил свое представление о сильных и смелых людях, которые были в эпоху 1812 года и которых не найти теперь.
- Да, были люди о наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри - не вы! -
говорит участник Бородинского боя. Связь стихотворения «Бородино» с идейными исканиями Лермонтова правильно понял Белинский, почувствовавший здесь жалобу «на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел». Но Лермонтов обратился к теме Отечественной войны 1812 года не просто в порядке романтического отталкивания от не удовлетворявшей его действительности. Отечественная война 1812 года показала всему миру героизм русского народа и положила начало тому движению дворянских революционеров, спад которого в реакционную эпоху так остро и болезненно ощущал поэт.
Естественно, что он противопоставляет своим неспособным на общественную борьбу современникам именно деятелей, порожденных эпохой 1812 года. Лермонтов глубоко прав, когда он связывает мужество и стойкость героев Отечественной войны с их пламенным патриотизмом, с их беззаветной преданностью Родине:
Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!
В «Думе» Лермонтов дает резкую критику своего поколения, снова вспоминая о сильных и смелых людях предшествующей эпохи. Характерно и само название стихотворения: «Дума» - это глубокое философское раздумье о судьбе страны и вместе с тем обвинительный акт современной поэту действительности. Стихотворение появилось, когда русское общество находилось в тяжелой духовной апатии. Лермонтова возмущало равнодушие людей, отказавшихся от борьбы.
Поколение, выросшее в условиях мрачной реакции, рассматривает общественно-политическую борьбу декабристов как ошибку:
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов…
Новое поколение отошло от участия в общественной жизни и углубилось в занятия «бесплодной наукой». Его не тревожат вопросы дора и зла, оно проявляет позорное малодушие перед опасностью. Лермонтов с горечью говорит о безотрадной участи своего поколения:
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой
Ни гением начатого труда.
Лермонтов еще юношей заявлял:
Как жизнь скучна, когда боренья нет.
«Жадное желание дела, активного вмешательства в жизнь» признавал особенностью поэзии Лермонтова А. М. Горький.
Равнодушие к общественной жизни - это духовная смерть человека. Сурово порицая за это равнодушие, Лермонтов зовет к нравственному обновлению, к пробуждению от духовной спячки.
В стихотворении «Дума» речь идет о трех поколениях: о поколении отцов, людей 20-х годов XIX века, о сверстниках поэта и о потомках, которые будут вершить свой суд над ними. К каому же поколению принадлежит сам поэт? Хронологически к тому, которое осуждает. Но мысленно он присоединяется к последующему поколению, его глазами смотрит на сверстников и судит их «со строгостью судьи и гражданина».
Лермонтов убежден в том, что свобода не приходит сама: за нее борются, страдают, идут на каторгу и гордо умирают. Поэт призывает к активной деятельности, к пробуждению гражданской совести у поколения, страдающего в бездействии.
40-е годы - один из самых интересных периодов собирания русской литературы XIX века,...
40-е годы - один из самых интересных периодов собирания русской литературы XIX века, того изумительного явления, которое в свое время поразило европейский мир. Здесь наряду с второстепенными именами выступают великие художники, сделавшие шаг вперед в развитии художественной литературы мира. Этот сложный процесс занимает не менее столетия (XIX век). Именно в период 40-х годов в литературе особенно резко сталкивается духовная красота человека со «свинцовыми мерзостями» того времени, что рождает мучительные поиски путей развития России.
Время 40-х годов - время идейных исканий. Мысль билась над тем, что такое Россия, в чем ее смысл. Славянофилы и западники, кружки Герцена и Огарева, Петра- шевского, Станкевича… Но жизнь не могла ограничиться кружками, ведь они не восполняли брешь познания действительности. А задача познания действительности наступает с необыкновенной энергией на молодых людей того времени и требует незамедлительного осмысления, ответа. И здесь мы можем в виде трех направлений представить познание материала. Это познание действительности, связанное с общим мировым движением идей, характерных для того времени. Это познание того, что связано с жизнью повседневной, я бы сказал, художественно-литературной. И это познание политической, фактической и моральной жизни общества того времени. Эти три области познания будут преследовать нас все время, потому что в них заключена русская действительность того времени.
Очень характерен и поучителен пример с B.C. Пече- риным. Человек большой одаренности, устремленный в классицизм, в изучение Греции, античности, признанный специалистами выдающимся явлением в медиевистике, он не мог остаться равнодушным к событиям революции 1830 года во Франции, и все его мысли, искания с этого момента относятся в первую очередь к существующему переживаемому моменту, лежат не в области древности, а в области «кричащих противоречий» - противоречий между евангельской правдой и крепостническим, рабским, деспотическим, в сущности говоря, жизнеустройством России того времени. Но преодолеть до конца тягу к познанию духовного мира и жить злобой дня Печерин не смог. Отсюда его уход из активной жизни в обществе в католицизм, желание отгородиться от действительных событий. Один из блестящих умов России делается капелланом тюремной церкви. Иногда «сумрачная» Россия все же просыпается в его сознании - отсюда его литературные корреспонденции, переписка с Герценом.
Печерин не нашел себе места в старой России. Его фигура стоит на пороге именно социалистической России. В его индивидуальной драме отразились многие черты исторической коллизии старого и нового миров.
Александр Герцен этого периода подобно Печерину чувствует всю остроту противоречий между евангельской правдой и рабской действительностью, деспотической сущностью России. Характерно отношение Герцена к евангельской правде, к чтению Евангелия, пронесенному через всю жизнь: «Евангелие читал я много и с любовью.
…> без всякого руководства, не все понимал, но чувство- кал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В перкой молодости моей я часто увлекался вольтерьянизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтобы когда- нибудь взял в руки Евангелие с холодным чувством, это меня проводило через всю жизнь. Во все возрасты я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу».
Остротой противоречий охвачены и Герцен, и Огарев, и многие «мальчишки», о которых позднее удачно скажет Салтыков-Щедрин: «Мальчишки - самое сильное сословие в России». Герцен, как натура энергичная, экспансивная, не мог оставаться наедине со своими мыслями и весь ушел в художественную литературу. Позднее он скажет, что повесть не его стихия; его стихия - статьи, публицистика. Но сейчас - повесть его стихия. Мир, в котором мы живем, - это «дом поврежденных», т. е. сумасшедших, с точки зрения доктора Крупова. Прекрасная социологическая повесть «Записки доктора Крупова», написанная Герценом, изображает здоровую натуру (Лёвку) и больное общество. Герцену, безусловно, удался образ тупорожденного Лёвки, он прекрасно, как художник, раскрыл внутренний мир мальчика, его различные проявления: когда Левка встретил Крупова, возвращающегося из семинарии и поцеловавшего его, как он был обрадован, смущен этим проявлением нежности, скрывая его от посторонних. Автор любуется спящим Левкой, его хорошим, спокойным лицом, без следов болезни, чуть освещенным лучом солнца и как бы испытывающим всю прелесть бытия от ощущения сна: «…Под большим деревом спал Левка…как тихо, как кротко спал он… <…> Никто никогда не дал труда вглядеться в его лицо: оно вовсе не было лишено своей красоты. Особенно теперь, когда он спал; щеки его немного раскраснелись, косые глаза не были видны, черты лица выражали такой мир душевный, такое спокойствие, что становилось завидно». Герцену удалось изобразить гамму психологических переживаний человека, который ничем не отличается от здоровых людей, только отношение к земле у него свое: он ее понимает, ощущает, чувствует ее красоту. Здесь Герцен-художник обернулся какой-то новой стороной, но, к сожалению, это не имело дальнейшего развития в его художественном творчестве.
В романе «Кто виноват?» уже нет этой диалектики души героев. Здесь оставлена только схема: среда и герой - и то, что во всем виновата среда: трагедия Круциферского и Любочки, покой которых нарушает Бельтов («лишний человек») своими романтическими исканиями. Риторика Герцена, закрывающая внутренний мир героев, многим читателям не нравилась. Роман этот непосредственно связан с просветительской литературой 40-х годов («натуральная школа»). Такие черты, как примитивная сюжетная схема, отсутствие внутреннего мира героев, риторика, делают его похожим на учебник, что было характерно для литературы 40-х годов.
Творчество Герцена этого периода не что иное, как программа христианского социализма. Моментом зарождения нового социализма считается французская революция 1789 года. Часть русского общества, несомненно, сочувственно отнеслась к исторической катастрофе Франции и считала 1789 год началом новой эпохи человеческого рода. Однако у Герцена найдено только имя явлению, его название, но не сама суть, не движение. Рассмотрение сути христианского социализма здесь отсутствует.
Герцен и Огарев. Они очень разные по психологическому складу, по отношению к миру, по пониманию человека. Огарев многое взял у Лермонтова. В лирике Огарева очень сильны отзвуки поэзии Лермонтова и романтизма вообще. Огарев с романтизмом не расстался («Романтизм в нас не вытравишь», «Мир ждет чего-то…»). Его личный крах - он потерял мечту (уход жены к Герцену и т. д.). А как плохо они жили! У них не было уклада, семьи, патриархального календаря. Они расстались с патриархальным укладом жизни. У них не было семьи в том понимании, какое дает христианство. Они были на другой ступени развития, ведущей к социализму. Что касается старого мира - это упадок. Что касается нового мира - это развитие. Старые вещи, уклад, патриархальный быт спасают человека от треволнений, которые несет с собой прогресс. Как только рвется эта связь - обязательно трагедия. Прогресс разрушает то, что есть, устоявшиеся формы жизни. В этом трагедия человеческого развития - в том, что не может быть неизменности.
Как писатели Герцен и Огарев очень разные. Один - портретист, памфлетист, очеркист. Ему удаются острые картины нравов, у него острое перо. Он умеет создать лицо, портрет. Другой, Огарев, - романтик, мечтатель, мистик. Сила Огарева - в его лирическом звучании, в исповеди души, в субъективности. Оба они автобиографичны.
Общемировое движение. Мировое движение идей того времени. Каково место России в мировом движении? Россия и Европа - какие здесь точки соприкосновения, взаимопроникновения? Каково наше историческое предназначение? Мы азиаты? Мы европейцы? Не этому ли посвящена большая часть трудов Станкевича, Герцена, Огарева, Ив. Киреевского? Это очень важно, потому что с этого момента мы можем говорить об общности движения России и Европы как явлениях одного целого. Ужв заранее скажем, что это явление важное, нужное, до сих пор не раскрытое историками литературы и культуры.
В осознании фактической политической жизни их занимает течение философской мысли: Хомяков, Печерин, братья Аксаковы, Герцен - славянофилы и западники. И, как всегда, там, где у нас не хватает исторического материала для познания, мы восполняем это художественными образами, художественными произведениями. Пройдя стадию ученичества, мы не сумели вступить в стадию самостоятельного, независимого суждения о развитии истории и места в ней России.
К этому можно прибавить то, что все описанные нами сейчас факты происходят после событий 14 декабря 1825 года, т. е. когда Россия могла или хотела пережить революцию, но не понимала, что революция не совершается только военным переворотом, - это свидетельство несостоятельности исторической мысли России того времени. Нам не хватает строгой логической выстроенности, исторического и идеологического мышления. Но мы преуспеваем в мышлении образами, в художественном осмыслении материала. Поэтому главным представляется движение или состояние художественной литературы 40-х годов (до середины 50-х) - беллетристики, как тогда ее называли - «натуральной школы», но в это понятие вмещено куда больше, чем привыкли видеть.
В эти годы мы видим большой интерес к биографиям. Историко-типологические явления мы подменяем фактами современности, не доводя их до обобщения. Материал биографического порядка дает довольно подробные описания времени и характера этого периода. Это целая художественная энциклопедия произведений, которые одновременно делаются и художественными документами эпохи. Биографии современников являются прекрасным документальным материалом, раскрывающим события того времени. Это, в сущности говоря, очень большой раздел, который во многом объясняет, почему у нас так много мемуара 20-30-х годов XIX века. Мы воспоминаниями заменяем наши философские, исторические суждения - это характерная черта русского мемуара.
Здесь нам важен мемуар С. Аксакова «Детские годы Багрова внука», где мемуар перестает быть им в буквальном смысле этого слова. Память лишь повод для рассуждения философского, экономического, этического характера. Вез понимания мемуара Аксакова «Детские годы Багрова внука» неясен смысл этого жанра вообще и в частности трилогии JI. Толстого «Детство. Отрочество. Юность».
Революционная ситуация готовилась в мемуарах. Это привело к высшей форме реализма - к русскому реалистическому роману: «Война и мир» JI. Толстого, «Бесы», «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского, «Обломов» И. Гончарова.
Из мира реального в мир идеальный - процесс едва нами уловимый, но необыкновенно ясный и четкий. Вот где грани искусства и действительности переходят друг в друга. Вчерашнее идеальное представляется нам как реальность, как материя, которую можно ощутить, где потеряны границы между искусством и жизнью, вернее - искусство превзошло жизнь. Мы поверили в него, как в реальность, как в повседневное явление. Такой вывод дает в своем романе «Обломов» И.А. Гончаров. Роман этот написан в конце 50-х годов, время, изображенное в нем, - 40-50-е годы.
В романе чрезвычайно хорошо характеризуется «натуральное направление» глазами Обломова. В первой главе он спорит с Пенкиным: «Где же тут человечность? <…> Какое же тут искусство, какие поэтические краски нашли вы? Обличайте разврат, грязь, только <…> без претензий на поэзию». «Не мешайте искусство с грязью жизни. Грязь жизни пусть останется. Вы все равно ничего не переделаете». Правда требует не красоты, не поэзии, а действительности.
Роман беспощаден в изображении человеческих чувств - и это было великим открытием И.А. Гончарова. У него нет снисхождения к современному человеку: здесь еще много идеальных воображений. Гончаров делает очень жестоко в «Обломове»: крах Штольца, крах Обломова. Человеку одинаково отпущены и счастье, и страдание. Переходя эти границы - счастья и несчастья - человек теряет способность действовать, управлять собой. Человек в изображении Гончарова не может вместить норму счастья и норму трагедии, потому что таких норм нет. И это было открытием Гончарова, это поразило Льва Толстого (который, кстати говоря, до такой глубины в изображении человека не дошел): «Обломов - капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. <…>…я в восторге от Облом[ова]… Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный…»Ч
1 Толстой JI.H. Поли. собр. соч.: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1949. Т. 60. С. 290.
Гончарову удалось обмануть своего героя (Обломова), показав, что «локти Пшеницыной» прекрасны не менее «снега» и «сирени» (то есть всего прекрасного в жизни). Но насладиться жизнью - еще не значит понять ее. Обломов к счастью только прикоснулся, с Ольгой, - и не выдержал его. А с Пшеницыной выдержал. Ап. Григорьев писал, что Обломову нужна была простая женщина, «без затей и выдумки», какие были у Ольги Ильинской. Ап. Григорьева вполне устраивала идея мещанской, обывательской жизни, которую Пшеницына предоставила Обломову. Простота выше всяких лирических чувств. Простота заменяет все. Почему Шереметев женился на Параше? Не только потому, что она была прекрасная актриса, а потому, что там была простота. Вот эта «простота», оказывается, и есть самое главное! Пшеницына проще Ольги Ильинской. У Пшеницыной есть сердце и любовь, где преобладает не чувственность, а ласка: и обогреет, и слово доброе скажет. Хотя смысл в этом слове небольшой (Пшеницына вообще ни над чем не задумывалась), но зато интонация богатая. А Ольга не знала своего сердца. Ап. Григорьев считал, что Ольга испортила Обломову жизнь. Надо жить сердцем, а не воспитанием. Человека можно научить, воспитать, но сердце не вложишь.
Нельзя не согласиться с мнением Ап. Григорьева, которое, в сущности, отражает целое направление русской жизни того времени. Нельзя думать, что литературная критика вся была проникнута прогрессивными идеями. Рядом с этим существовала критика повседневности, отрицающая всякие идеи. Провозглашалась одна идея - простоты как самого главного в жизни человека и в искусстве.
Ап. Григорьев - отрицатель социалистических теорий. Вся современная литература для него - литература в пользу бедных и в пользу женщин. Ап. Григорьев считал, что русский человек не может заглушить в себе голоса душевно-духовных интересов. Социализм обращает человека в «свинью рылом вниз», и для русской души нет ничего противнее утопии Фурье.
Восток и Запад - разные пути, противостоящие друг другу, как теория и жизнь. Запад ограничивает человека его собственными пределами, главное здесь - реабилитация плоти, а не поиски духа. Восток же внутренне носит в себе живую мысль, «верует в душу живу». Социалисты - люди с узкими теориями: «отрицательная правота» Герцена и впоследствии - Н.Г. Чернышевский. В русской идейной жизни возобладал тип семинариста, для которого исходной точкой является отрицание, воспитанное на схемах и доктринерстве поповского социализма. «Их ведь ломали в бурсе, гнули в академии - отчего же им-то жизнь не ломать?» (Ап. Григорьев).
Ап. Григорьев по взглядам - идеалист, романтик. «Рыцарь чистого образа», как сам он себя называл. Григорьев жаждал истины «цветной», т. е. не черно-белой, а неоднозначной полноты жизни, которая не впишется ни в одну теорию. Социализм для Григорьева бесцветен, расчетлив - не такова душа русского человека. Себя он ощущал скитальцем, рыцарем на распутье:
Кто слезы лить способен о великом, Чье сердце жаждой истины полно, В ком фанатизм способен на смиренье, На том печать избранья и служенья.
В этом есть, хотя и не без позы, много искренности, свободы и духовной красоты.
Пока шли все эти разговоры о социализме, фурьеризме, фалангах, правительство этому большого значения не придавало. Да и сам социализм выглядел в их глазах утопией. Но когда в «Телескопе» за 1836 год появились «Философические письма» Чаадаева, этого правительство не могло вынести. Оно обиделось и возмутилось. В «Письмах» утверждалось, что Россия не внесла ничего нового в исторический прогресс, что наше существование похоже на бивачную жизнь, где нет ничего устойчивого, твердого, нерушимого. «Мы не принадлежим ни Востоку, ни Западу… не имеем традиций… мы стоим как бы вне времени, нас не коснулось всемирное воспитание рода человеческого…». «Отшельники в мире, мы не дали ничего миру и ничему у него не научились. Мы не внесли ни единой идеи в массу идей человечества. Мы ничего не прибавили к прогрессивному развитию человеческого ума, и чем воспользовались, то обезобразили».
Чаадаев был объявлен сумасшедшим, его рассуждения - бредом, а сам он взят на лечебное содержание во избежание всяких неприятностей. От Чаадаева была получена подписка, что он больше ничего писать не будет. Его посещали врач и полицмейстер для освидетельствования душевной болезни. Императорский рескрипт вызвал негодование со стороны прогрессивных людей того времени и страх в обывательской среде. Чаадаев написал в это время «Апологию сумасшедшего», которую нигде не мог опубликовать. Петр Яковлевич сохранял спокойствие и невозмутимость, по-прежнему посещал общество, дворянское собрание и был как бы укором глупости и невежеству николаевского правительства.
Как могло получиться, что Россию объявляют несостоятельной, когда Россия изгнала французов и провозгласила в Австрии после конгрессов, на которых выступал Александр I, что «русский царь стал царь царей»? Полная победа русской политики в Европе. Между изгнанием французов и «Философическими письмами» - 20 лет. Но это не время для истории. Потому правительство Николая I и было так ошарашено.
Чаадаев понимал, что существующая политика ведет Россию к краху. Оно так и получилось, когда неожиданно вспыхнула война на Черном море. Флота нет, техники нет, а европейцы (Англия, Франция) поступили хитро: они бросили вперед все туземные войска (там ведь тоже были различные колониальные войска), Россия стала отвоевываться своими колониальными войсками (кавказские, азиатские), и были грандиозные потери для нее. По договору Россия должна была уничтожить весь Черноморский флот. Так что здесь Чаадаев, как пророк, увидел будущее. Николай I понял свою ошибку, и возникла гипотеза, что он отравился, не выдержав этого позора.
Хомяков. И для Хомякова, и для Чаадаева трагично было то, что они думали о создаваемом ими мировоззрении как об универсальном материале, который дает объяснение историческим процессам. В данном случае, говоря об истории, они думали о России. Но идеология не может вырасти на пустом месте, по заказу, по построенной схеме. Идеология, или система взглядов, философия различных направлений, есть результат долгой, постоянной, болезненной работы не только человеческой мысли, но в первую очередь исторического начала. Важно, как исторические факты складываются, какой порядок принимают, что является главным, что второстепенным, где автор только медиум, а где он деспотически распределяет материал по собственному усмотрению.
Если в свое время Чаадаеву удалось ясно и последовательно изложить свою систему, и никто, в сущности, не мог его опровергнуть, кроме комических посылок «встреча по субботам», над чем все смеялись - в том числе и сам Чаадаев, понимая, что самый умный человек в России - «сумасшедший», - то положение Хомякова совсем другое. Никакой системы он не изобрел. Да этого и не могло быть. Исследователь только идет за фактами и событиями, одевая их в словесную шкуру. Поэтому так слаба мысль Хомякова, пока она не одета в религиозную одежду. Но когда она «одета», она теряет свой социально-исторический смысл и является только приложением к рассказу. Поэтому о Хомякове интереснее всего писать как о хозяине, устроителе, организаторе, практике, а не о человеке философской системы. Он был награжден практическим умом, но эта практика никогда не может быть интересна как исторический факт, а только как последовательный рассказ. В этом была трагедия автора «Семирамиды». Это показывает то, что философии у нас в России не было. В философы мы не годимся. Блуждаем в христианском мистицизме и ничего не находим нужного, хотя все лежит на поверхности. Лучше всего эту национальную черту выразил Ф. Достоевский: «Смирись, гордый человек!» Ты строй, создавай, но в отвлеченности не лезь. Церковь отрицает философствование, признает только наитие, внутреннюю просветленность. Философствование не нужно верующему человеку. Не все ли равно, какому Богу молиться - лишь бы молиться.
У Хомякова только одна форма познания - соборная, коллективная. Индивидуального познания быть не может, потому что оно лишь часть целого. Гносеология Хомякова покоится на самом факте бытия, а не на учении о бытии. Н. Бердяев пишет, что Хомяков «не мог связать идею соборности с учением о мировой душе» (и здесь куда больше можно было ожидать от самого Бердяева), но он, Хомяков, и не ставил перед собой такой задачи.
Мечты об устройстве общества без сословно-классо- вых противоречий откровенно высказаны Херасковым в его произведениях. У Хомякова они сохраняют почти первоначальную форму. Идеи бесклассового крестьянского мира занимали большое место у мыслителей периода сороковых годов.
Как субъективная симпатия могла перерасти в социальную доктрину? Только как мечта. (Превратить мечту в реальную помощь удалось, пожалуй, только Новикову: Херасков предоставил Новикову типографию, и он там печатал все, что хотел. Религиозную литературу он меньше всего печатал, а больше всего - агитационную, объясняющую, кто есть мужик, кто есть крестьянин.) Стихи Хомякова о России вызвали страшное недовольство Николая I. Душа России должна покаяться в тех преступлениях, которые совершаются сейчас. Это не программа - это призыв к покаянию:
С душой коленопреклоненной, С главой, лежащею в пыли.
Император отравился. Откровенно говорили, что он не мог вынести полного поражения флота на Черном море.
Гоголь - мощная фигура. В сущности, человек невежественный, без образования (кроме гимназии на Украине), но какое сильное стремление проникать в суть явлений и какое сильное проникновение в суть людей, вещей, идей! В «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Хотят обнять все человечество, как брата, а сами брата не обнимут».
Сила слова - великая вещь! И Гоголю она была дана. Он мог эту великую власть слова воплощать в разных жанрах, в разных колоритах и с огромной силой разоблачения мира!
40-е годы - тот период, когда собирается литература. И «собирает» ее Гоголь. «Бедовик», уличные музыканты - все это потеряло смысл.
Как взрыв, появился целый сборник рассказов, поразивший всех, - «Вечера на хуторе близ Диканьки». Когда Гоголь написал «Вечера…», это всё затмило - и о дворниках писать уже не хотелось. Его рассказы были настолько новы, интересны и не похожи на предыдущее, что все остановились, разинув рты, и хохотали - от критиков до наборщиков. Один рассказ интереснее и увлекательнее другого! «Этот хохол нас перепишет», - раздавались голоса того времени.
Но как художник слова, Гоголь понимал, что этого мало. И он ринулся в быт, в то повседневное, что нас окружает. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Ссора вышла из-за пустяка- как ружье проветривать. Ивану Ивановичу понравилось ружье. Он просил его продать, но Иван Никифорович отказался. Если нельзя продать, то можно поменять - и предложил бурую свинью. Иван Никифорович обиделся: «Целуйтесь сами со своей свиньей. А ружье - это вещь».
Оскорбительное слово «гусак» повисло между двумя друзьями, как роковое. И с тех пор началась тяжба. Суд еще не приступал к делу, а ссора продолжается. Каждодневная жизнь со сплетнями, интригами, наговорами - сюжет, важный для человека того времени.
«Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Невеста посмотрела на Шпоньку, а Шпонька на невесту. Она делала кругообразные движения на стуле. Тетушка поняла, что все решено, и обручение состоялось. Гоголь предлагает читателю уморительные сцены, но не только это. Замечательная лирическая повесть, идущая вровень с самыми чувствительными романами, - «Старосветские помещики».
Плодовые деревья, ограды, покосившиеся домики… и сами обитатели. Тайное венчание, как в лучших авантюрных романах, и жизнь шла замечательно ровно, красиво, лирично. Их особое занятие было покушать. Разговоры Пульхерии и Афанасия Ивановича. «Что Вы хотите? - И еще можно». Афанасий Иванович наедался досыта, и все проходило к общему удовольствию. Но вот случилась странная история. Белая кошка, которую очень любила Пульхерия, решила погулять и потерялась в гуще дерев, по-видимому, встретив там кавалера, который ее увлек. Когда кошечка не вернулась и на другой день, Пульхерия сказала, что это знак не к добру. Афанасий Иванович ее утешил. Но это не убеждало Пульхе- рию. Наконец кошечка прибежала, встала против нее и промяукала. «Это пришла моя смерть», - сказала Пульхерия. С этим настроением они и остались. И через некоторое время Пульхерия действительно заболела и умерла. Афанасий Иванович плакал как ребенок. Страдания его были неописуемы. Боялись, не тронется ли он в уме. Он проводил до могилы спутницу своей жизни, горько; шрыдал и не обращал внимания ни на какие уговоры. Прошло много времени, когда автор вновь заглянул в это милое урочище. Афанасий Иванович был страшно доволен моим приездом. Мы сели за стол. Когда девка резкими движениями засунула ему салфетку, он на это даже внимания не обратил. Когда я вспомнил Пульхерию, Афанасий Иванович залился горькими слезами. Его печаль была так велика, так неподдельна и так страшна, что автор увидел, какой может быть человеческая страсть, не подверженная возрасту. Гнездо, в котором провели они столько прекрасных дней, исчезло. Сколько там было любви! Но все проходит.
«Хохол, который нас перепишет», действительно, всех переписал - и создал героическую эпопею «Тарас Бульба», где во всю ширь разворачиваются и характеры казацкие, и характеры ляшские (ляхи - поляки). Этот художник умел показать и разгулье казаков, их буйные нравы, нестерпимый характер, и утонченное ляшское воспитание. Среди этих двух миров он ставит своего героя - Андрия. Лирического героя, полюбившего красоту полячки. Самое страшное для казака - союз с полькой. И далее - трагическая сцена: «Я тебя породил, я тебя и убью». И Остап попал в лапы поляков. На Соборной площади собрали народ, чтоб публично казнить его. Но перед этим его еще надо испытать, измучить, нанести максимум боли. Остап сказал: «Батько, где ты? Слышишь ли ты?» И из толпы раздался голос: «Слышу, сынко!» И голоса этого нельзя было заглушить.
В самых различных жанрах Гоголь изображает материальную, духовную, повседневную жизнь того времени.
Но он хочет представить всю Россию - и пишет поэму «Мертвые души».
30-е годы - эпоха Пушкина. И все наши представления связаны с пушкинскими представлениями как в эстетическом, так и в идейном плане. Теперь центры переместились. Сами идеи стали носить совершенно иной характер. Жизнь, отгороженная от повседневности, была приглушена, и выступила на авансцену жизнь другая - со всеми ее мелочами. Быт, мелочи повседневности, которые уже перестают восприниматься как мелочи, а воспринимаются как нечто существенное. Это относится абсолютно ко всему. Пушкин не будет акцентировать внимание на жилете, запонках и манишке героя. Это для него несущественно, как само собой разумеющееся. А гоголевский герой весь из этого соткан. Это очень важно в ходе повествования, потому что его поступки, его идеи, его интересы - они тоже мелочны. Его страсти, вплоть до наживы, тоже мелочны. Хотя видимость очень крупная, а в сущности - у этого «миллионщика» ничего за душой нет. Но эти черты характерны не только для Гоголя, а для всего периода. Гоголь в этом смысле - «знамя». Этой особенностью мелочности, безыдейности охвачены все писатели того периода, но Гоголем эти черты схвачены чрезвычайно. <…>
Примечания:
Федеральное агентство по образованию
Волгоградский государственный технический университет
Кафедра истории, культуры и социологии
Реферат по Отечественной истории
«Общественное движение 30 –50-х гг. XIX века»
Волгоград 2010
С о д е р ж а н и е
2.1Славянофильство 6
2.2Западничество 8
Введение
В первой половине XIX в. во всем мире обострилась идейная и об-щественно-политическая борьба. Россия не была исключением. Однако если в ряде стран эта борьба закончилась победой буржуазных револю-ций и национально-освободительных движений, то в России правящая верхушка сумела сохранить существовавший экономический и социаль-но-политический строй.
В царствование Александра I сложилась обстановка, которая способствовала появлению реформаторс-ких проектов и конституционных настроений у передовой и образованной части русского общества, побуждая их к составле-нию радикальных планов государственных преобразований. Это способствовало зарождению деятельности декабристов, что стало значительным событием в русской истории. Однако недостаточная подготовленность общества к преобразованиям, несогласованность действий, выжидательная тактика привели к поражению декабристов.
Новый период русской истории, наступивший после разгрома декабристов, связан с личностью Николая I. Николаевское правительство предприняло ряд мер по укреплению полиции, усилению цензуры. В обществе, терроризированном расправой над декабристами, выискивали малейшие проявления “крамолы”. Заведенные дела всячески раздувались, преподносились царю как “Страшный заговор”, участники которого получали непомерно тяжелые наказания. Но это не привело к спаду общественного движения. Оно оживилось. Центрами развития общественной мысли стали различные петербургские и московские салоны, кружки офицеров и чиновников, высшие учебные заведения, литературные журналы и т.д. В общественном движении второй четверти XIX века наметились три идейный направления: консервативное (приверженцы правительственной идеологии), либеральное и радикальное (приверженцы революционной идеологии).
Консервативная идеология.
Восстание декабристов было подавленно, но оно подчеркнуло неотвратимость перемен, заставило общественное движение последующих десятилетий искать свои решения насущных проблем российской жизни. Новый этап в общественном движении России начинается в 1830-х гг., когда в Москве возникают кружки А.И. Герцена и Н.В. Станкевича. Внешне они имели вид литературно-философских объединений, на деле же играли важную практическую роль в идейной жизни империи.
Николаевское правительство пыталось разработать соб-ственную идеологию, внедрить ее в школы, университеты, печать, воспитать преданное самодержавию молодое поколе-ние. Главным идеологом самодержавия стал Уваров. В про-шлом вольнодумец, друживший со многими декабристами, он выдвинул так называемую “теорию официальной народ-ности” (“самодержавие, православие и народность”). Смысл ее состоял в противопоставлении дворянско-интеллигентской революционности и пассивности народных масс, наблю-давшейся с конца XVIII в. Освободительные идеи представ-лялись как наносное явление, распространенное только сре-ди “испорченной” части образованного общества. Пассивность же крестьянства, его патриархальная набож-ность, стойкая вера в царя изображались в качестве “искон-ных” и “самобытных” черт народного характера. Другие на-роды, уверял Уваров, “не ведают покоя и слабеют от разно-мыслия”, а Россия “крепка единодушием беспримерным - здесь царь любит Отечество в лице народа и правит им, как отец, руководствуясь законами, а народ не умеет отделять Отечество от царя и видит в нем свое счастье, силу и славу”.
Социальная задача “официальной народности” заключалась в том, чтобы доказать “исконность” и “законность” крепостничества и монархического правления. Крепостное право объявлялось “нор-мальным” и “естественным” социальным состоянием, одним из важнейших устоев России, “древом, осеняющим церковь и престол”. Самодержавие и крепостничество назывались “священ-ными и неприкосновенными”. Патриархальная, “спокойная”, без социальных бурь, революционных потрясений Россия противопос-тавлялась “мятежному” Западу. В этом духе предписывалось писать литературные и исторические произведения, этими принципами должно было быть пронизано и все воспитание.
Главным “вдохновителем” и “дирижером” теории “официальной народности”, несомненно, был сам Николай I, а министр народного просвещения, реакционные профессора и журналисты выступали в роли усердных ее проводников. Основными “толкователями” теории “официальной народности” являлись профессора Москов-ского университета – филолог С.П. Шевыреви историк М.П. По-годин, журналисты Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин. Так, Шевырев в своей статье “История русской словесности, преимущественно древней” (1841) высшим идеалом считал смирение и принижение личности. По его утверждению, “тремя коренными чувствами креп-ка наша Русь и верно ее будущее”: это “древнее чувство религиозности”; “чувство ее государственного единства” и “осоз-нание нашей народности” как “мощной преграды” всем “иску-шениям”, которые идут с Запада. Погодин доказывал “благоде-тельность” крепостничества, отсутствие в России сословной вражды и, следовательно, отсутствие условий для революционных потря-сений. По его представлению, история России хотя и не имела такого разнообразия крупных событий и блеска, как западная, но она была “богата мудрыми государями”, “славными подвигами”, “высокими добродетелями”. Погодин доказывал исконность в России самодержавия, начиная с Рюрика. По его мнению, Россия, приняв христианство от Византии, установила благодаря этому “истинное просвещение”. С Петра Великого Россия должна была многое заимствовать от Запада, но, к сожалению, заимствовала не только полезное, но и “заблуждения”. Теперь “пора возвратить ее к истинным началам народности”. С установлением этих начал “русская жизнь наконец устроится на истинной стезе преуспеяния, и Россия будет усваивать плоды цивилизации без ее заблуждений”.
Теоретики “официальной народности” доказывали, что в России господствует наилучший порядок вещей, согласный с требованиями религии и “политической мудрости”. Крепостное право хотя и нуждается в улучшении, но сохраняет много патриархального (т. е. положительного), и хороший помещик лучше охраняет интересы крестьян, чем они смогли бы сделать это сами, а положение русского крестьянина лучше положения западноевропейского рабочего.
Уваровская теория, которая в те времена покоилась, ка-залось, на очень прочных основаниях, имела все же один крупный изъян. У нее не было перспективы. Если существу-ющие в России порядки так хороши, если налицо полная гармония между правительством и народом, то не надо ни-чего изменять, или совершенствовать. Кризис этой теории наступил под влиянием военных неудач в годы Крымской войны, когда несостоятельность николаевской политической системы стала ясна даже ее приверженцам (например, М.П. Погодину, который выступил с критикой этой системы в своих “Историко-политических письмах”, адресованных Николаю I, a затем Александру II).
Либеральное направление
Славянофильство
С конца 30-х гг. либеральное направление приняло форму идейных течений западничества и славянофильства. Они не имели своих печатных органов (до 1856 г.), и дискуссии про-ходили в литературных салонах.
Славянофилы - в основном мыслители и публицисты (А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские. И.С. и К.С. Аксаковы, Н.Я. Данилевский) идеализировали допетровскую Русь, настаи-вали на ее самобытности, которую они усматривали в кресть-янской общине, чуждой социальной вражды, и в православии. Эти черты, по их мнению, должны были обеспечить мирный путь общественных преобразований в стране. Россия должна была вернуться к Земским соборам, но без крепостного права.
Западники - преимущественно историки и литераторы (И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский,С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, М.Н. Катков) были сторонниками европейского пути развития и выступали за мирный переход к парламент-скому строю.
Однако в главном позиции славянофилов и западников совпадали: они выступали за проведение политических и со-циальных реформ сверху, против революций.
Исходной датой славянофильства как идейного направления в русской общественной мысли следует считать1839 год, когда два его основоположника, Алексей Хомяков и Иван Киреевский, вы-ступили со статьями: первый – “О старом и новом”, второй – “В ответ Хомякову”, в которых были сформулированы основные поло-жения славянофильской доктрины. Обе статьи не предназначались для печати, но широко распространялись в списках и оживленно обсуждались. Конечно, и до этих статей различными предс-тавителями русской общественной мысли высказывались славя-нофильские идеи, но они еще тогда не обрели стройной системы. Окончательно же славянофильство сформировалось в 1845 г. ко времени выпуска трех славянофильских книжек журнала “Москвитянин”. Журнал не был славянофильским, однако редак-тором его был М.П. Погодин, который охотно предоставлял славя-нофилам возможность печатать в нем свои статьи. В 1839 – 1845 гг. сложился и славянофильский кружок. Душой этого кружка был А.С. Хомяков – “Илья Муромец славянофильства”, как его тогда называли, умный, энергичный, блестящий полемист, необыкновен-но даровитый, обладавший феноменальной памятью и огромной эрудицией. Большую роль в кружке играли также братья И.В. и П.В. Ки-реевские. В кружок входили братья К.С. и И.С. Аксаковы, А.И Кошелев, Ю.Ф. Самарин. Позднее в него вошли отец братьев Аксаковых С.Т. Аксаков, известный русский писатель, Ф.В. Чижов и Д.А. Валуев. Славянофилы оставили богатое наследие в философии, литературе, истории, богословии, экономике. Иван и Петр Киреевские считались признанными авторитетами в области богословия, истории и литературы, Алексей Хомяков – в богос-ловии, Константин Аксаков и Дмитрий Валуев занимались русской историей, Юрий Самарин – социально-экономическими и политическими проблемами, Федор Чижов – историей литературы и искусства. Дважды (в 1848 и 1855 гг.) славянофилы пытались создать свои политические программы.
Термин “славянофилы”, по существу, случаен. Это название им было дано их идейными оппонентами – западниками в пылу полемики. Сами славянофилы первоначально открещивались от этого названия, считая себя не славянофилами, а “русолюбами” или “русофилами”, подчеркивая, что их интересовали преимущественно судьба России, русского народа, а не славян вообще. А.И. Кошелев указывал, что их скорее всего следует именовать “туземниками” или, точнее, “самобытниками”, ибо основная их цель состояла в защите самобытности исторической судьбы русского народа не только в сравнении с Западом, но и с Востоком. Для раннего славянофильства (до реформы 1861 г.) не был характерен также и панславизм, присущий уже позднему (пореформенному) славя-нофильству. Славянофильство как идейно-политическое течение русской общественной мысли сходит со сцены примерно к середине 70-х годов XIX в.
Основной тезис славянофилов – доказательство самобытного пути развития России, точнее – требование “идти по этому пути”, идеализация “самобытных” учреждений, в первую очередь кресть-янской общины и православной церкви.
Правительство настороженно относилось к славянофилам: им запрещали демонстративное ношение бороды и русского платья, некоторых из славянофилов за резкость высказываний сажали на несколько месяцев в Петропавловскую крепость. Все попытки издания славянофильских газет и журналов немедленно пресе-кались. Славянофилы подвергались гонениям в условиях усиления реакционного политического курса под влиянием западноевро-пейских революций 1848 – 1849 гг. Это заставило их на время свернуть свою деятельность. В конце 50-х – начале 60-х годов А.И. Кошелев, Ю.Ф. Самарин, В.А. Черкасский – активные участники в подготовке и проведении крестьянской реформы.
Западничество
Западничество, как и славянофильство, возникло на рубеже 30 – 40-х годов XIX в. Московский кружок западников оформился в 1841 – 1842 гг. Современники трактовали западничество очень широко, включая в число западников вообще всех, кто противостоял в своих идейных спорах славянофилам. В западники наряду с такими умеренными либералами, как П.В. Анненков, В.П. Боткин, Н.Х. Кетчер, В.Ф. Корш, зачислялись В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев. Впрочем, Белинский и Герцен сами называли себя “западниками” в своих спорах со славянофилами.
По своему социальному происхождению и положению большинство западников, как и славянофилов, относились к дво-рянской интеллигенции. В число западников входили известные профессора Московского университета – историки Т.Н. Гра-новский, С.М. Соловьев, правоведы М.Н. Катков, К.Д. Кавелин, филолог Ф.И. Буслаев, а также видные писатели И.И. Панаев, И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, позднее Н.А. Некрасов.
Западники противопоставляли себя славянофилам в спорах о путях развития России. Они доказывали, что Россия хотя и “запоз-дала”, но идет по тому же пути исторического развития, что и все западноевропейские страны, ратовали за ее европеизацию.
Западники возвеличивали Петра I, который, как они говорили, “спас Россию”. Деятельность Петра они рассматривали как первую фазу обновления страны, вторая должна начаться проведением реформ сверху – они явятся альтернативой пути революционных потрясений. Профессора истории и права (например, С.М. Соловь-ев, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) большое значение придавали роли государственной власти в истории России и стали основопо-ложниками так называемой государственной школы в русской историографии. Здесь они основывались на схеме Гегеля, считав-шего государство творцом развития человеческого общества.
Свои идеи западники пропагандировали с университетских кафедр, в статьях, печатавшихся в “Московском наблюдателе”, “Московских ведомостях”, “Отечественных записках”, позже в “Русском вестнике”, “Атенее”. Большой общественный резонанс имели читаемые Т.Н. Грановским в 1843 – 1851 гг. циклы публичных лекций по западноевропейской истории, в которых он доказывал общность закономерностей исторического процесса в России и западноевропейских странах, по словам Герцена, “историей делал пропаганду”. Западники широко использовали и московские сало-ны, где они “сражались” со славянофилами и куда съезжалась просвещенная элита московского общества, чтобы посмотреть, “кто кого отделает и как отделают его самого”. Разгорались жаркие споры. Выступления заранее готовились, писались статьи и трак-таты. Особенно изощрялся в полемическом задоре против славя-нофилов Герцен. Это была отдушина в мертвящей обстановке николаевской России.
Несмотря на различия в воззрениях, славянофилы и западники выросли от одного корня. Почти все они принадлежали к наиболее образованной части дворянской интеллигенции, являясь крупными писателями, учеными, публицистами. Большинство их были воспитанниками Московского университета. Теоретической осно-вой их взглядов была немецкая классическая философия. И тех и других волновали судьбы России, пути ее развития. И те и другие выступали противниками николаевской системы. “Мы, как двуликий Янус, смотрели в разные стороны, но сердце у нас билось одно”, – скажет позднее Герцен.
Надо сказать, что за “народность” выступали все направления русской общественной мысли – от реакционной до рево-люционной, вкладывая в это понятие совершенно различное содер-жание. Революционное рассматривало “народность” в плане демократизации национальной культуры и просвещения народных масс в духе передовых идей, видело в народных массах социальную опору революционных преобразований.
Революционное направление
Революционное направление сформировалось вокруг журна-лов "Современник" и "Отечественные записки", которыми ру-ководил В.Г. Белинский при участии А.И. Герцена и Н.А. Не-красова. Сторонники этого направления также считали, что Россия пойдет по европейскому пути развития, но, в отличие от либералов, полагали, что революционные потрясения неизбежны.
До середины 50-х гг. революция была необходимым усло-вием отмены крепостного права и для А.И. Герцена. Отмеже-вавшись в конце 40-х гг. от западничества, он пришел к идее "русского социализма ", который основывался на свободном разви-тии русской общины и артели в соединении с идеями европей-ского социализма и предполагал самоуправление в общегосудар-ственном масштабе и общественную собственность на землю.
Характерным явлением в русской литературе и публицистике того времени было распространение в списках “крамольных” стихов, политических памфлетов и публицистических “писем”, которые в тогдашних цензурных условиях не могли появиться в печати. Среди них особенно выделяется написанное в 1847 г.Белинским “ Письмо к Гоголю”. Поводом к его написанию явилась публикация в 1846 г. Гоголем религиозно-философского произве-дения “Выбранные места из переписки с друзьями”. В опубликованной в “Современнике” рецензии на книгу Белинский в резких тонах писал об измене автора своему творческому наследию, о его религиозно-“смиренных” взглядах, самоуничижении. Гоголь счел себя оскорбленным и направил Белинскому письмо, в котором расценивал его рецензию как проявление личной неприязни к себе. Это и побудило Белинского написать свое знаменитое “Письмо к Гоголю”.
В “Письме” острой критике подвергнута система николаевской России, представляющая, по словам Белинского, “ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей”. Белинский обрушивается и на официальную церковь – прислужницу самодержавия, доказывает “глубокий атеизм” русского народа и ставит под сомнение религиозность церковных пастырей. Не щадит он и знаменитого писателя, называя его “проповедником кнута, апостолом невежес-тва, поборником обскурантизма и мракобесия, панегиристом та-тарских нравов”.
Самые ближайшие, насущные задачи, стоявшие тогда перед Россией, Белинский сформулировал так: “Уничтожение крепостно-го права, отменение телесного наказания, введение, по возмож-ности, строгого исполнения хотя тех законов, которые уже есть”. Письмо Белинского распространилось в тысячах списков и вызвало большой общественный резонанс.
Самостоятельной фигурой в идейной оппозиции николаев-скому правлению стал П.Я. Чаадаев (1794 - 1856). Выпускник Московского университета, участник Бородинского сражения и "битвы народов" под Лейпцигом, друг декабристов и А.С. Пушкина, он в 1836 г. опубликовал в журнале "Телескоп" первое из своих "Философических писем", которое, по словам Герцена, "потрясло всю мыслящую Россию". Отрицая офици-альную теорию "удивительного" прошлого и "великолепного" настоящего России, Чаадаев дал весьма мрачную оценку исто-рического прошлого России и ее роли в мировой истории; он крайне пессимистически оценивал возможности обществен-ного прогресса в России. Главной причиной отрыва России от европейской исторической традиции Чаадаев считал отказ от католицизма в пользу религии крепостного рабства - право-славия. Правительство расценило "Письмо" как антиправи-тельственное выступление: журнал был закрыт, издатель от-правлен в ссылку, цензор уволен, а Чаадаев объявлен сумасшедшим и отдан под надзор полиции.
Видное место в истории освободительного движения 40-х годов занимает деятельность кружка петрашевцев. Основателем кружка был молодой чиновник Министерства иностранных дел, воспитанник Александровского (Царскосельского) лицея М.В. Буташевич-Петрашевский. Начиная с зимы 1845 г. на его петербур-гской квартире каждую пятницу собирались учителя, литераторы, мелкие чиновники, студенты старших курсов, т. е. в основном молодая интеллигенция. Здесь бывали Ф.М. Достоевский, А.Н. Майков, А.Н. Плещеев, М.Е. Салтыков, А.Г. Рубинштейн, П.П. Семенов. Позже на пятницах Петрашевского стала появляться и передовая военная молодежь.
В первую очередь самого Петрашевского и многих членов его кружка интересовали модные тогда проблемы социализма. Петра-шевский даже предпринял попытку пропагандировать социа-листические и материалистические идеи в печати.
С зимы 1846/47 г. характер кружка стал заметно меняться. От обсуждения литературных и научных новинок члены кружка пере-ходили к обсуждению насущных политических проблем и критике существующего политического строя в России. Наиболее умерен-ные по взглядам члены кружка отходят от него. Но появляются новые люди, более радикальных взглядов, например И.М. Дебу, Н.П. Григорьев, А.И. Пальм, П.Н. Филиппов, Ф.Г. Толь, которые высказывались за насильственные меры (“произвести бунт внутри России через восстание крестьян”) для свержения самодержавия, освобождение крестьян с землей, введение парламентарной рес-публики со всеобщим избирательным правом, открытого и равного для всех суда, свободу печати, слова, вероисповедания. Группу лиц, разделявших эти идеи, возглавлял Спешнев. Петрашевский занимал более умеренную позицию: конституционная монархия, освобож-дение крестьян сверху с наделением их землей, которой они владели, но без всякого за нее выкупа.
К 1848 г. собрания у Петрашевского принимают уже ярко выраженный политический характер. В кружке обсуждаются буду-щее политическое устройство России и проблема революции. В марте – апреле 1849 г. петрашевцы приступили к созданию тайной организации и даже стали строить планы вооруженного восстания. Н.П. Григорьевым была составлена прокламация к солдатам – “Солдатская беседа”. Для тайной типографии приобрели печатный станок. На этом деятельность кружка была прервана правительст-венными репрессиями. Министерство внутренних дел уже несколь-ко месяцев следило за петрашевцами через засланного к ним агента, который давал подробнейшие письменные отчеты обо всем, что говорилось на очередной “пятнице”.
В апреле 1849 г. наиболее активные члены кружка были арестованы, их намерения были расценены следственной ко-миссией как опаснейший "заговор идей", и военный суд приговорил 21 петрашевца (среди них Ф.М. Достоевского) к смертной казни. В последний момент приговоренным было объявлено о замене смертной казни каторгой, арестантскими ротами и ссылкой на поселение.
Период, названный Герценом"эпохой возбужденности ум-ственных интересов", продолжался до 1848 г. В России насту-пила реакция, уехал за границу Герцен, умер Белинский. Новое оживление наступило лишь в 1856 г.
Заключение
Новый этап в общественном движении России начинается в 1830-х гг., когда в Москве возникают кружки А.И. Герцена и Н.В. Станкевича. Внешне они имели вид литературно-философских объединений, на деле же играли важную практическую роль в идейной жизни империи.
Европейские революции 1848-1849 гг. оказали огромное вли-яние на российское революционное движение. Многие его участники вынуждены были отказаться от прежних взглядов и верований, прежде всего от надежды на то, что Европа укажет всему человечеству путь к всеобщему равенству и братству.
Герцен считал, что революция в России, если она и понадобится, совсем не обязательно должна вылиться в кровавое действо. С его точки зрения, достаточно было освободить общину от надзора помещиков и чиновников, и общинные порядки, поддерживаемые 90% населения страны, восторжествовали бы.
Излишне, наверное, говорить, что герценовские идеи явля-лись красивой утопией, поскольку осуществление его плана открыло бы дорогу бурному развитию в России капитализма, но никак не социалистических порядков. Однако теория общинно-го социализма стала знаменем целого революционного направления, поскольку ее осуществление зависело не от поддержки власть-имущих или богатых меценатов, а от решительности и деятель-ности самих революционеров. Через десять лет герценовская теория собрала под свои знамена российское революционное народничество.
В начале 1850-х гг. российский народнический, революционно-демократический лагерь только начинал формироваться, а потому был далек от единства и не сказывал заметного влияния на политические дела страны. В нем присутствовали три типа деятелей. Одни (Герцен, Огарев) признавали революцию лишь как последний довод угнетенных. Вторые (Чернышевский, Н. Серно-Соловьевич) ве-рили в революцию как единственный метод общественного переустройства, но считали, что для ее проведения должны созреть определенные социально-экономические и политиче-ские предпосылки.
Все деятели революционного лагеря, безусловно, ждали все-российского крестьянского восстания в 1861-1863 гг. (как ответа на тяжелые для масс условия крестьянской реформы), которое могло бы перерасти в революцию. Однако ждали они его с разными чувствами. Первые два направления в революционном движении не могли расстаться с той тревогой, которая в свое время заставила декабристов уповать на военную революцию и не пытаться привлечь на свою сторону народные массы. Суть этой тревоги заключалась в том, что политически неграмотные, неорганизованные крестьянские массы, как показывает исто-рия, легко становятся слепым оружием в руках самых реакцион-ных сил.
Список использованной литературы
- 30 -х годов XX века Англией и... . Широкое социально-политическое и идеологическое общественное движение в Западной и Центральной Европе... Вече. 65. Представители общественно -политического течения в 40 – 50 гг . XIX в., придерживающиеся учения...
Социальное- экономическое развитие России во второй и третей половине XIX века
Курсовая работа >> ИсторияУниверситетов, постепенно переломили общественное мнение. В 1830- ... итоге совершается общее движение . За исключением нескольких... С. Иваново. В середине 50 -х гг . XIX века в Шуйском уезде насчитывалось... фазу своего развития (30 -50 -е гг .) прошел в условиях...
Консервативное движение в Российской империи во 2-й половине XIX века
Курсовая работа >> История... общественно -политического движения в России второй половины XIX века»6. Общее развитие общественных движений в XIX веке ... Александром II 30 марта 1856 ... на конец 50 -х годов, ... XIX века / Сост. А.А. Уткин. - Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2006. – Ч. 2. 1825 – 1855 гг ...
Правовое регулирование промышленного производства во второй половине XIX начала XX веков
Реферат >> Государство и правоПромышленности мешали феодальные устои. Россия 30 -50 -х гг . XIX века могла быть охарактеризована как страна... XX века торговые отношения в среде русской буржуазии преобладали над промышленными. Подъем общественного движения ...
Коршелов В.А. Отечественная история XIX в. М.: АГАР, 2000. – 522с.
Кузнецова Ф.С. История Сибири. Ч. 1. Новосибирск, 1997.
Миллер Г.Ф. История Сибири. М., Л., 1977.
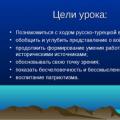 Презентация "Русско-турецкая война" по истории – проект, доклад
Презентация "Русско-турецкая война" по истории – проект, доклад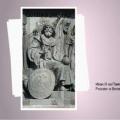 Презентация - Правление Ивана IV Грозного
Презентация - Правление Ивана IV Грозного Как написать роман или в помощь зрелому графоману
Как написать роман или в помощь зрелому графоману