Гольштейн-готторп-романовы. Забытая реальность

Метафизическая война | Сергей Кургинян | 30 декабря 2016 г. - 17:34
Опубликовано в №210 от 28 декабря 2016 г.
Судьба гуманизма в XXI столетии (#91)
В петербургском высшем свете ходили разного рода сомнительные притчи, претендовавшие на историческую достоверность. Согласно одной из них, Александр III, узнав от Победоносцева, что настоящим отцом Павла I был не Петр III, а Салтыков, якобы перекрестился и сказал: «Слава Богу, мы русские». А услышав от историков, что это не так, снова перекрестился и сказал: «Слава Богу, мы законные»
Легко рассуждать о некоем элитном сгустке, с определенными целями налаживающем свои отношения с какими-то тибетско-гималайскими веяньями на протяжении длинных интервалов времени.
Легко рассуждать также о том, как именно этот, видите ли, сгусток связан с последней русской императрицей, она же - Алиса Гессенская, и другими как нашими отечественными, так и зарубежными структурами, постоянно тянущимися именно в тибетско-гималайскую зону.
Но если мы хотим наполнить словосочетание «элитный сгусток» каким-то содержанием, нам мало просто установить связи между графом Сен-Жерменом и тибетско-гималайскими веяньями, а также связи между этим графом и Карлом Гессен-Кассельским, тянущимся и к графу, и к тибетско-гималайской тематике, и ко всей алхимической проблематике, и к Азии в целом.
Мало также установить связи между этим же графом и матерью Екатерины II. А также связи между графом Сен-Жерменом и так называемыми розенкрейцерскими и околорозенкрейцерскими группами в Европе и России. Притом, что эти группы считали графа Сен-Жермена своим наставником, посредником между ними и разного рода высшими силами.
Не буду скрывать от читателя, что во всем, что связано с этим элитным сгустком, есть совсем необычные сюжеты. И что другие сюжеты, скучные и обычные, я сейчас буду излагать именно для того, чтобы перейти от них к чему-то совсем неординарному и одновременно вполне подтвержденному с исторической точки зрения. Но никакие необычные сюжеты сами по себе не могут вывести нас на необходимый след. Только их сочетание с чем-то вполне рутинным с исторической точки зрения, может, как я уверен, открыть нам дверь в мир, который нас по-настоящему интересует. А потому я, перед тем как перейти к экзотике, изложу некие рутинные сведения, отнюдь не относящиеся при этом к разряду общеизвестных. Да и какие исторические сведения вообще можно у нас сейчас отнести к разряду общеизвестных? Тем важнее сообщить читателю для начала такие, с одной стороны - рутинные, а с другой - теперь уже не общеизвестные - сведения.
Ее отец - генерал-майор прусской армии, князь Кристиан Август Ангальт-Цербстский.
Ее мать - 17-летняя жена генерала, Иоганна Елизавета. Иоганна Елизавета принадлежала к княжеской фамилии Гольштейн-Готторпов.
К рутинным сведениям я отношу всё, что связано с рассматриваемыми немецкими элитными семьями - Ангальт-Цербстской, Гольштейн-Готторпской и другим.
Когда первый раз Романовы роднятся с немецкими княжескими домами Европы?
В 1710 году, когда племянница Петра Первого, Анна Ивановна (Иоанновна), дочь старшего брата Петра - Ивана Алексеевича, выходит замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма - представителя княжеской династии Кеттлеров.
Второй раз это происходит 13 октября 1711 года, когда несчастливый наследник царя Петра Великого Алексей женится на герцогине Брауншвейг-Вольфенбюттельской Софье-Шарлотте.
Третий раз брачный союз представителей Романовых и немецких княжеских домов осуществляется в 1716 году, когда Екатерина Ивановна (Иоанновна), старшая сестра будущей императрицы Анны Иоанновны, выдается замуж за герцога Карла-Леопольда Мекленбург-Шверинского.
В четвертый раз кандидатом на такой же брачный союз становится Карл-Фридрих, герцог Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский. Брачный союз заключается между ним и дочерью Петра Первого Анной Петровной...
Гольштейн-Готторпский... Стоп!
Если до этого момента я описывал последовательно все брачные союзы, закреплявшие родство Романовых и немецких княжеских домов Европы, то теперь, дойдя до первого представителя Гольштейн-Готторпов, я отказываюсь соблюдать такую последовательность. Потому что при ее соблюдении мое исследование общих проблем неминуемо превратится в более или менее детальное изучение неких частных, хотя и важных для понимания нашей истории, родословных.
Поэтому пропуская пятый, для нас не слишком важный, случай бракосочетания Романовых с немецкими княжескими домами, сообщаю читателю, что дочь Петра Первого Анна Петровна родила сына от Карла Фридриха, герцога Гольштейн-Готторпского - Карла Петера Ульриха, герцога Гольштейн-Готторпского.
Этот герцог Гольштейн-Готторпский, будучи сыном одной из дочерей Петра Великого Анны Петровны, тем самым приходился племянником другой дочери Петра Великого - Елизавете Петровне, известной в истории как российская императрица Елизавета.
Поскольку Елизавета Петровна не была обвенчана ни с каким представителем той или иной достойной престолонаследия династии, она не могла передать правление по механизму прямого престолонаследия. Поэтому Елизавета повелела привезти в Петербург своего ближайшего родственника - сына своей старшей сестры Анны Петровны, Карла Петера Ульриха.
Что касается самой Анны Петровны, то она, родив Карла Петера Ульриха 10 февраля 1728 года, через месяц умерла. Причина смерти - последствия неудачных родов, осложненные воспалением легких.
Итак, Анна Петровна умерла, а ее сын Карл Петер Ульрих, вызванный своей тетей Елизаветой Петровной в Петербург, должен был стать то ли новым российским императором, то ли шведским королем: по матери Карл Петер Ульрих был внуком Петра Великого, а по отцу - внуком сестры шведского короля Карла XII.
В итоге Карл Петер Ульрих, именуемый в официальных источниках герцогом Гольштейн-Готторпским (он стал владетельным герцогом Гольштейн-Готторпа в 1745 году), стал-таки после смерти Елизаветы Петровны императором и самодержцем всероссийским Петром III.
Ну так вот... Специалисты, занимающиеся классификацией отдельных кланов Романовых, называют Петра III первым представителем Гольштейн-Готторпской (Ольденбургской) ветви Романовых на российском престоле. Обратим внимание на эту существенную деталь - специалисты ведут речь не о Романовых как таковых, а о Гольштейн-Готторпах, царствующих в России под именем (а можно сказать, что и под маской) Романовых. Этот первый Романов-Гольштейн-Готторп процарствовал в России примерно полгода. После чего был свергнут своей женой Екатериной II.
Итак, мы имеем дело с как бы российской императорской четой: Петром III, на самом деле - Гольштейн-Готторпом, и будущей Екатериной II, она же - дочь князя Ангальт-Цербстского Кристиана-Августа, происходившего из цербст-дорнбургской линии Ангальтского дома, и Иоганны Елизаветы Гольштейн-Готторпской, дочери любекского князя Христиана Августа, принцессы Гольштейн-Готторпского дома.
Мать Екатерины II приходилась двоюродной теткой мужу Екатерины Второй. И мать Екатерины II, и муж Екатерины II являлись представителями Гольштейн-Готторпского дома.
Налицо и впрямь некая гольштейн-готторпская ветвь династии Романовых. Или романовская ветвь Гольштейн-Готторпской. Те, кто Романовых веками не любили, говорят о романовской ветви Гольштейн-Готторпов. Те, кто к Романовым веками относились менее негативно, говорят о гольштейн-готторпской ветви династии Романовых. Но только те, кто вообще не хочет знать правду, могут говорить о Романовых как таковых.
Но разве были другие, тоже немецкие, ветви романовской династии? Да, они были. И боролись с обсуждаемой нами сейчас Гольштейн-Готторпской ветвью. Для того чтобы обсудить эту борьбу, нам придется еще глубже погрузиться в династическую рутину.
После смерти Петра Великого началась династийная борьба, в которую в частности были включены «петровцы», то есть род самого Петра, и «ивановцы», то есть род старшего брата Петра Великого Ивана Алексеевича.
К числу «петровцев» относится Елизавета Петровна.
К числу «ивановцев» - Анна Иоанновна и Анна Леопольдовна. Последнюю Елизавета Петровна свергла в ходе дворцового переворота и, свергнув, стала императрицей.
Анна Леопольдовна - дочь Екатерины Ивановны. А Екатерина Ивановна - дочь брата Петра Великого Ивана, принадлежит к числу «ивановцев», а значит, и Анна Леопольдовна принадлежит к «ивановцам». Другое дело, что мужем Екатерины Ивановны - матери Анны Леопольдовны - являлся герцог Карл-Леопольд Мекленбург-Шверинский.
Анна Леопольдовна была обязана своим воцарением императрице Анне Иоанновне. Эта Анна Ивановна, принадлежа сама к «ивановцам» (она - дочь Ивана Алексеевича, старшего брата Петра Великого), люто ненавидела «петровцев». То есть - любых прямых потомков Петра Великого. А Елизавету Петровну, главу «петровцев», она ненавидела с особенной лютостью.
Не имея возможности передать власть своему прямому наследнику, Анна Ивановна передала ее Анне Леопольдовне. Женихом же Анны Леопольдовны стал принц Брауншвейг-Беверн-Люненбургский Антон-Ульрих. Откровенно говорилось о том, что этот принц проводит в России интересы Австрии и что другие женихи Анны Леопольдовны нежелательны, ибо будут проводить интересы Пруссии.
Анну Леопольдовну почти насильно выдали замуж за Антоне-Ульриха, который успел к тому времени прослужить уже несколько лет в российской армии и проявить себя храбрым офицером. Это произошло в 1739 году.
В 1740 году у Антона-Ульриха и Анны Леопольдовны родился сын Иван. И в этом же году умерла Анна Иоанновна. Регентом при Анне Леопольдовне стал фаворит Анны Иоанновны Бирон, который скоро был свергнут другим любимцем Анны Иоанновны - фельдмаршалом Минихом.
Антона-Ульриха и Анну Леопольдовну открыто называли «брауншвейгская чета». Или - брауншвейгская ветвь династии Романовых. Вот вам две ветви: гольштейн-готторпская и брауншвейгская. И война между ними. Она же - война между Пруссией и Австрийской империей.
Офицеры гвардии, боготворя Петра Великого, имели все основания бороться на стороне «петровцев», а значит, Елизаветы. И они, конечно же, не любили «ивановцев», а значит, брауншвейгскую ветвь.
Когда же брауншвейгская чета отправила в опалу того самого фельдмаршала Миниха, который, расправившись с Бироном, возвел эту чету на престол, то стал стремительно оформляться антибрауншвейгский гвардейский заговор в пользу «петровцев», то есть в пользу Елизаветы.
Этот заговор, положивший конец всесилию брауншвейгской ветви Романовых и утвердивший всесилие их гольштейн-готторпской ветви, состоялся в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года.
Брауншвейгская фамилия оказалась не просто отстранена. Сначала Анну Леопольдовну и Антона-Ульриха хотели выслать на родину, потом, не довезя до Риги, посадили в острог, потом стали перевозить из одного острога в другой.
Анна Леопольдовна умерла довольно быстро. Антон-Ульрих уцелел. О судьбе его сына Ивана Антоновича ему ничего не было известно.
Другие представители этой фамилии сначала преследовались, потом, при Екатерине, им было дано некое послабление, но никакой роли в истории России они не сыграли. В отличие от представителей гольштейн-готторпской ветви.
Читатель теперь убедился в том, что с момента восшествия на престол Петра Федоровича, относящегося к Гольштейн-Готторпам (он же - российский император Петр III), и особенно с момента, когда императрицей стала свергнувшая своего мужа Екатерина II, тоже относящаяся к Гольштейн-Готторпам, узкие специалисты по генеалогии и истории правящих семей стали правомочно называть романовскую династию «Гольштейн-Готторпы-Романовы»
. Читатель убедился, что такое именование является не клеветническим, а исторически объективным. Но если бы дело сводилось к разговорам в среде специалистов по генеалогии! Нет, читатель. Гольштейн-готторпско-романовская тема с давних пор имеет не только историческо-генеалогический, но и элитно-политический характер. Иначе бы мы ее и не обсуждали.
Князь Петр Владимирович Долгоруков (1816–1868) - мягко говоря, далеко не безупречная фигура. Готов присоединиться к самым негативным оценкам этой фигуры. Но даже если все упреки в адрес Долгорукова принять за чистую монету (а на самом деле эти упреки делятся на справедливые и несправедливые), то это никоим образом не сказывается на профессиональной репутации Долгорукова, являвшегося одним из крупнейших специалистов по русской генеалогии.
И всё же обращение Долгорукова к царю Александру II, которое я хочу процитировать, нельзя рассматривать только как свидетельство особого злословия данного публициста. Хотя, конечно же, по части злословия Петр Владимирович, что называется, кроет все мыслимые и немыслимые рекорды своего времени. Кстати, мне лично из всех по-настоящему отвратительных выходок Долгорукова особо омерзительна одна его выходка - кормление гостей пирогом с мясом своего любимого дога. И не потому, что мне жалко гостей, а потому, что мне жалко дога.
Но можно быть омерзительным человеком и хорошим специалистом. Долгоруков сочетал в себе этот профессионализм и человеческую омерзительность. И нас в данном случае интересует именно профессионализм.
Если бы даже в обращении Долгорукова к Александру II злословие полностью возобладало над профессионализмом (а это, безусловно, не так), то всё равно обращение Долгорукова представляет собой яркий документ эпохи. Вокруг этого обращения велась острая элитно-политическая дискуссия. Так что его все равно следует воспроизвести. Вот что Долгоруков пишет Александру II, именуя его «исполняющим в России должность Романова»
:
«Вам известно, Государь, что предки мои были великими князьями и управляли Россией в то время, когда предки Вашего Величества не были еще графами Ольденбургскими».
Имеется в виду, что основатель Москвы Юрий Долгорукий - это древняя русская власть, а так называемые Романовы - это вообще не ахти что с точки зрения родовитости. И это нечто, закончившееся вскоре после Петра Великого и фактически подмененное Гольштейн-Готторпскими (или, что фактически то же самое, Ольденбургскими) иноземцами, не имеющими особого отношения к Романовым, а исполняющими в России должность оных.
В той российской аристократии, которая не причисляла себя к Романовым, императорское семейство называли Гольштейн-Готторпским. Так что отнюдь не только специалисты используют такое название, читатель. Оно было широко использовано в элитной борьбе. И в итоге стало одним из важных слагаемых в низвержении Романовых.
В 1885 году в «Учреждение об императорской фамилии» было внесено изменение. Согласно этому изменению, правнуки и праправнуки императора лишались титула великих князей и княжон. Для них устанавливался титул «князь императорской крови» (какой именно крови - непонятно). Враги Романовых радовались этому. А один из Романовых, великий князь Михаил Николаевич Романов (1832–1909), последний сын императора Николая I и его супруги Александры Федоровны (являвшийся, как и все остальные Романовы, фактически представителем разного рода немецких родов, женатый на немецкой принцессе и так далее), писал: «Это всё петербургский высший свет, который радуется этой мере, говоря, что они - Рюриковичи, а мы - немцы-гольштинцы, в коих и романовской крови не осталось. А что сказали бы Долгоруковы или Оболенские, если бы у их потомства отняли принадлежащий им титул. Причем без суда, без совершения преступления и т. д.»
В петербургском высшем свете ходили разного рода сомнительные притчи, претендовавшие на историческую достоверность. Согласно одной из них, Александр III, узнав от Победоносцева, что настоящим отцом Павла I был не Петр III, а Салтыков, якобы перекрестился и сказал: «Слава Богу, мы русские». А услышав от историков, что это не так, снова перекрестился и сказал: «Слава Богу, мы законные».
Согласно другой притче, император Александр II якобы говорил о своем внебрачном сыне от Долгоруковой: «Он настоящий русский. В нем, по крайней мере, течет русская кровь» .
А теперь если от притч, важных постольку, поскольку они передают историческую атмосферу, переходить к чему-то исторически достоверному, то нельзя не упомянуть письмо, написанное Александром III в 1886 году. Письмо адресовано Константину Петровичу Победоносцеву (1827–1907), обер-прокурору Святейшего Синода, одному из главных идеологов, «особо приближенных к Государю»:
«Есть господа, которые думают, что они одни Русские, и никто более. Уж не воображают ли они, что я Немец или Чухонец. Легко им с их балаганным патриотизмом, когда они ни за что не отвечают».
Так называемый «Готский альманах» (Almanach de Gotha) является самым авторитетным справочником по генеалогии европейской аристократии. Он ежегодно издавался с 1763-го по 1944 год на немецком и французском языках. Правящую в России династию этот ведущий исторический источник по генеалогии упорно называл «Гольштейн-Готторп-Романовы». Альманах повторяли и другие иностранные исторические издания.
Последняя российская императрица Александра Федоровна, она же - Алиса Гессен-Дармштадская, потребовала от редакции справочника убрать два первых элемента фамилии. И угрожала, что в противном случае запретит ввоз ежегодника в Россию.
В своей книге «При дворе последнего императора. Записки начальника канцелярии Министерства двора» Александр Александрович Мосолов (1854–1939) указывал на то, что приходилось вразумлять императрицу. Мол, «по мнению редакции Альманаха, наименование династии исторически точно (император Павел - сын герцога Петра Гольштейн-Готторпского) и изменено быть не может» .
Мосолов, увещевая императрицу, предупреждал ее, что запрещение Альманаха «вызовет общеевропейский скандал. Самый аристократический, легитимистский «Альманах» запрещен для ввоза в Россию. Конечно, доищутся до этих двух слов (имеются в виду слова Гольштейн-Готторп - С.К.), вызвавших запрещение, пойдут пересуды по всей столице и за границей. Альманах будет тайно ввозиться в Россию дипломатами и даст пищу для обсуждения деликатного династического вопроса (неслабо сказано - С.К.), совершенно широкой публике не известного. Поверьте, Ваше Величество, годами печатают этот заголовок, и никто на него не обращает внимания. Лучше его игнорировать, чем поднимать шум» .
Поскольку история княжеских домов Европы вообще и немецких в особенности достаточно запутана, то мне придется сообщить читателю еще некоторые частные сведения.
Гольштейн-Готторпы - немецкая герцогская династия, являющаяся младшей ветвью Ольденбургской династии. Ольденбургская династия - династия немецкого происхождения, берущая свое начало от некоего Эгильмара, графа Леригау, упоминаемого в северо-германских летописях за 1091 год. Ольденбурги контролировали территорию на северо-западе Германии. Какое-то время они правили в Дании, Норвегии. Род Ольденбургов делится на несколько линий. Есть, например, Гольштейн-Зонденбургская линия, которая распадается на Августенбургскую и Глюксбург-Бекскую. Какое-то время представители Гольштейн-Зонденбургской ветви Ольденбургского дома (Глюксбурги) правили в Норвегии, в Греции.
Но нас, конечно же, интересует младшая линия Ольденбургского дома. Ее-то и называют Гольштейн-Готторпской линией. Основателем этой линии или ветви Ольденбургского дома был герцог Адольф, сын короля Дании Фридриха I (1471–1533). Младшая Гольштейн-Готторпская ветвь Ольденбургского дома владела землями в Гольштинии, области на северо-западе Германии, являющейся южной частью земли Шлезвиг-Гольштейн. Гольштиния, читатель, - это регион не простой. А также весьма загадочный.
В раннем Средневековье западную часть будущего Гольштейна заселяли саксы, а восточную - славяне-вагры, входившие в союз ободритов. Главным укреплением вагров был Старигард (Старград), позже переименованный - как ты думаешь, читатель, во что? Правильно - в Ольденбург!
В городе Старграде, который его низвергатели потом называли Ольденбургом, находилась резиденция вагрского (западнославянского) князя и вагрское (западнославянское) языческое святилище.
В начале X века вагров покорил император Оттон I Великий (912–973), герцог Саксонии, король Германии, император Священной Римской империи, король Италии. Именно при Оттоне I была создана Священная Римская империя. Оттон I обратил вагров в христианство, сохранив у них собственных князей.
В 968 году в Старграде было создано епископство.
Однако оно было сокрушено славянскими восстаниями 963 и 990 годов, когда вагры сокрушили и епископство, и немецкую власть.
Позже вагры снова были покорены немцами.
Но в 1066 году вагры подняли новое восстание и освободились из-под власти немцев еще аж на целые 100 лет.
Так что город Ольденбург, являющийся столицей немецкого рода Ольденбургов, - это славянский Старград. А Старград - это город, являющийся особо упорной точкой славянского сопротивления немецкой колонизации. Чуешь, читатель, чем именно это пахнет?
Если русские - это славяне, то у Ольденбургов как немцев есть наистариннейший опыт войны и колонизации славян. Тот опыт, который они сначала реализуют с ваграми на своей базовой территории, а потом, в каком-то смысле, реализуют в чуждой им России, которая стала вотчиной их дома, глубочайше и последовательно антиславянского.
Вотчиной их дома, являющегося антиславянским с древнейших времен.
Того немецкого дома, которому гораздо больше, чем Тевтонскому ордену приходилось преодолевать яростное сопротивление особо антинемецких славян вагров, которые то покорялись немцам, то раз за разом сбрасывали их своими могучими победительными восстаниями.
В последний раз славяне-вагры сбросили немцев в 1066 году и давали им в дальнейшем отпор на протяжении ста лет. Отпор давался на основе славянского язычества. Наиболее известный языческий славянский вождь этого времени - языческий князь Круко (или Круто).
Круто (иначе Крутой) принадлежал к западно-славянскому племени руян, населявшему с VI века нашей эры остров Рюген (по-славянски, Руян). На острове находилось святилище Святовита. Так звали бога войны и победы у этих западных славян. Святовит - это бог плодородия, противостоящий Чернобогу. Можно было бы много говорить об этом типе славянства, о некоторых образах, которые религия этого славянства породила, о заимствовании этих образов в поздней литературе, например, у Вальтера Скотта в «Айвенго».
Но основное, конечно же, в том, что ольденбургские немцы неукротимо сражались со славянами, для которых немецкий Ольденбург - это их славный Старград. А немецкий Рюген - это их Руян, где на северном мысе Акрона находился храм славянского вендского бога Святовита.
Этот храм был сожжен завоевателем, датским королем Вальдемаром I Великим, который, будучи правнуком Владимира Мономаха, родившимся на Руси в доме своего деда, и сыном предводителя славян-ободритов, став королем Ютландии и герцогом Шлезвига, начал воевать со славянами-вендами (они же - полабские славяне, они же - руяне), которые к тому моменту сильно потеснили датчан. Вальдемар I Великий сражался с вендами, взяв в союзники Генриха Льва, возглавившего в 1147 году крестовый поход против славян (кстати, первый поход окончился неудачей).
Генриха Льва и Вальдемара I Великого объединяла не только борьба со славянами, но и династийные браки. Всего Вальдемар совершил более 20 сухопутных и морских походов. Наибольшим успехов увенчался его поход 1168 года, когда был взят остров, являвшийся столицей руян, и разрушено руянское святилище.
В ходе войн с Вальдемаром I руяне утратили независимость, а князь руян Яромар или Яромир (1168–1218) вместе с братьями принял христианство и признал вассальную зависимость от Дании. Насильственное обращение руян в христианство длилось столетиями, но в 1234 году руяне в последний раз скинули датское владычество и даже резко расширили свои владения.
Сын князя Яромара II Вислав II (1240–1302) признал вассальную зависимость материковой (и только материковой) части своего княжества от императора Священной Римской империи Рудольфа I Габсбурга.
Последним руянским князем был Вислав III (1265–1325), находившийся в сложных отношениях с датскими и иными неславянскими силами, постоянно принуждавшими его к тем или иным формам вассалитета, навязывавшими ему договоры о наследовании и так далее. В 1404 году умерли последние жители Руяна, говорившие по-славянски.
Итак, Ольденбургский дом в целом и его младшая ветвь в частности сформировались на руинах обсужденного только что западного славянства. Ольденбургские властители вынуждены были сосуществовать с этими славянами, воевать с ними, наступать, отступать, маневрировать.
При внимательном прочтении исторических хроник обнаруживается, что ольденбургские властители входили в сложные династические связи, отдаленно напоминающие те, которые привели потом к образованию обсуждаемого нами гольштейн-готторпско-романовского феномена в очень далеком прошлом.
Подобные связи, еще раз подчеркну: отдаленно напоминающие то, что мы только что обсудили, возникали за многие столетия до Петра III и Екатерины II.
Приведу один из наиболее ярких примеров.
adminrussia в «Романовы» царствовали... царствуют? ...и будут царствовать?!Весь год по России идут мероприятия, обозначаемые в честь «400-летия царствования династии Романовых». Венцом торжеств, по-видимому, стала заканчивающаяся в Москве, в Манежном зале, выставка «Православная Русь. Романовы».
Давайте разберёмся. Нас явно водят за нос. При чём тут «400 лет царствования»? Романовы, что, до сих пор царствуют в России? Нет. Значит, в самом названии всей юбилейной кампании заключён великий исторический и юридический подлог.
Воцарение Романовых как акт узурпации власти и политического насилия
Формально династия восседала на российском престоле с 1613 по 1917 год — 304 года. Впрочем, 1613 год, который взят юбилеетворцами за точку отчёта, по правде никак не может считаться началом реального правления династии. Я умолчу здесь про фарс «земского собора» как якобы «всенародного призвания на трон». Точно так же призывались на трон «всенародными земскими соборами» и Борис Годунов, и первый названный Димитрий (многими, однако, опознанный как истинный сын Ивана Грозного), и Василий Шуйский. Формальное (претенденту на трон всего-то 16 лет было!) воцарение Михаила Романова было таким же чисто партийным актом временно победившей стороны. Различие с предыдущими «призваниями» Смутного времени лишь в том, что кандидат удержался на троне.
Мне, конечно, возразят: мол, потому он и удержался, что был поддержан всем народом! История как наука, конечно, плоха тем, что в ней невозможны эксперименты. Но факт удержания власти — шаткое доказательство «всенародной поддержки». Те же монархисты отказываются признавать, что большевики пользовались поддержкой большинства народа, хотя именно большевики положили конец «смуте», последовавшей за свержением царя в XX веке.
Итак, когда в Москве сидел на троне Михаил Романов, вокруг Москвы всё ещё ходили войска Заруцкого (первые поднявшие знамя борьбы против захвативших столицу поляков). Заруцкий поддерживал сына Марины Мнишек (кстати, первой официально венчанной патриархом русской царицы). С казаками Заруцкого удалось справиться только в 1614 году. Первая помазанная на царство русская государыня была умерщвлена в темнице Коломенского кремля, а её трёхлетний сын повешен. Все эти преступления были совершены во имя новой династии узурпаторов, и хочется спросить: а чем эти убийства лучше расстрела царских детей в 1918 году? Новгород упорно признавал шведского королевича. Смута закончилась только в 1619 году, однако сразу вслед за ней началось двоецарствие, так как из польского плена воротился отец Михаила — Феодор.
Феодор Романов, он же патриарх «тушинских воров» Филарет. Посажение на московский трон его сына, естественно, заставило считать все политические грехи Феодора-Филарета не существовавшими. По возвращении в Москву тот, по праву родителя, хоть был формально духовным лицом, отнял у сына светскую власть, сохранив при том ещё сан патриарха. И только после его смерти в 1633 году Михаил стал и де-юре и де-факто самодержавным государем. Так что делюсь креативом: спустя 20 лет монархисты имеют «полное римское право» разыграть ещё один фарс 400-летия «единодержавия в России».
Елизавета Петровна, на которой оборвался Романовский род
В 1813 году никто не вспоминал про «200-летие дома Романовых»
Общепризнанно, что династия — нисходящая линия потомков по отцовской линии. Если быть последовательными, то династия Романовых прервалась ещё в XVIII веке. Последним царствовавшим отпрыском мужского пола из этого рода был Пётр II (1727-1730) — внук Петра I, сын несчастного царевича Алексея Петровича. Последним монархом из династии Романовых была дочь Петра I Елизавета Петровна (1741-1761). 25 декабря 1761 года (5 января 1762 г. по н. ст.) она скончалась и на российский трон взошёл Пётр III — представитель Гольштейн-Готторпской линии Ольденбургской династии. Все последующие российские императоры были его прямыми потомками по мужской линии.
250-летний юбилей воцарения дома Гольштейн-Готторпов на русском престоле состоялся в самом начале прошлого года. Однако почему-то прошёл незамеченным для монархической публики.
Долгое время российские монархи совершенно не комплексовали по поводу иноземного происхождения своей фамилии. Правда, ещё Павел I (1796-1801) сделал первые шаги по «национализации» правящей династии. На памятнике Петру I, установленному в Петербурге напротив Михайловского (Инженерного) замка — любимого жилища Павла I, красуются слова: «Прадеду — правнук». Павел I гордился своим знаменитым предком по бабке — матери Петра III, дочери Петра I Анне Петровне. Но его сын Александр I (1801-1825), демонстрируя полный разрыв с политикой отца, был равнодушен к своим тонким русским корням.
Вот почему, в 1813 году никто не вспомнил про юбилей воцарения Романовых. Дело было не только в том, ещё длилась (правда, уже на чужой территории) война с Наполеоном. Просто на тот момент правящая в России династия не нуждалась в подчёркивании своих якобы «русских» истоков. Да и у монархов Европы вопрос об их этнических корнях никогда не был основанием их авторитета.
«Русификация» Гольштейн-Готторпов
Ситуация резко поменялась к началу ХХ века в связи с общим ростом национализма в Европе и России. Наибольшую инициативу в придании петербургскому монаршему дому русского почвеннического имиджа проявила «истинно русская» супруга Николая II, урождённая Виктория Алиса Хелена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская.
Начальник канцелярии императорского двора при Николае II генерал Александр Александрович Мосолов рассказал в своих мемуарах, какой гнев у императрицы вызывало то, что за рубежом правившую в России династию неизменно называли Гольштейн-Готторп-Романовыми. В России переводился на русский язык и печатался немецкий «Готский Альманах» — своего рода ежегодный настольный календарь с указанием праздничных дат всех правивших в Европе монарших домов, популярный у аристократической публики.
««Готский Альманах» ежегодно присылал нам корректурные листы, касающиеся России, — вспоминал Мосолов. — Мы вносили все перемены, случившиеся за год. При этом я неизменно лично вычеркивал слова «Гольштейн-Готторп». Все исправления редакция аккуратно вносила в новое издание, а на вычеркнутое наименование династии внимания не обращала. Как-то я сделал по этому поводу письменный запрос. Мне ответили, что, по мнению редакции «Альманаха», наименование династии исторически точно (император Павел — сын герцога Петра Гольштейн-Готторпского) и изменено быть не может».
Когда об этом узнала супруга Николая II, она потребовала запретить ввоз «Готского Альманаха» в Россию. По мнению придворного генерала, такая мера была чревата резким падением престижа царствующей фамилии внутри страны и за рубежом. Между ним и императрицей состоялся примечательный разговор:
«— Неужели вы не можете найти способа заставить эту упрямую редакцию вычеркнуть два слова? — спросила меня государыня.
— Я им писал и письменно получил отказ.
— А если я вам разрешу уведомить их, что вы обращаетесь к ним по Моему приказанию?
— Это значило бы, Ваше Величество, рисковать получением в ответ цитат из исторических актов, подтверждающих правильность их наименования династии. И пожалуй, они предадут гласности всю переписку.
— Тогда запретите ввоз этого издания в Россию.
— Это тем более невозможно, так как вызовет общеевропейский скандал... Но, быть может, великая княгиня Виктория Фёдоровна [двоюродная сестра царицы, супруга великого князя Кирилла Владимировича], как принцесса Саксен-Кобург-Готская, найдёт ход в редакцию и уговорит снять эти слова?
Тут мой доклад оборвался, и императрица не возобновляла разговора на эту тему».
Спасибо их величествам за наше счастливое прошлое!
Всеми европейскими государствами в разное время правили монархи иностранного происхождения: иногда не без пользы для подданных, хотя иной раз даже не зная их языка.
Гораздо важнее, что во времена Романовых и сменивших их Гольштейн-Готторпов было сделано Россией. И тут возникает вопрос: насколько успехи Российской империи можно приписать её монархам? Если все их связывать только с деятельностью царей, то это будет желательная аналогия для тех, кто склонен приписывать победу в Великой Отечественной войне исключительно роли Сталина, а всё вообще положительное, что было в советское время — только последствиям революции 1917 года и руководящей роли КПСС.
Видимо, этой логикой руководствуется корреспондент, написавший про упомянутую выставку в Манеже: «Яркими штрихами обозначены самые значительные достижения каждого периода. Например, на одном из стендов — 1913 год: Россия на первом месте в мире по темпам производства, выходит на второе место в мире по уровню промышленности. Каждую эпоху характеризуют цитаты Пушкина, Карамзина, ученых, философов, политических деятелей, самих правителей».
Мне такие показушные мероприятия надоели со времён Леонида Брежнева (а более ранних я просто не помню), а потому не ходил и не знаю, характеризуются ли на выставке эпохи тех или иных монархов цитатами Радищева, Лермонтова, Белинского, Добролюбова, Некрасова, Чернышевского, Льва Толстого, Плеханова, Кропоткина... Вряд ли, наверное. А ведь это — тоже писатели, поэты, философы России первой величины...
Не забудьте перезвездиться! — напоминает митрозамполит
Кто может внятно объяснить, почему постоянно проживающую в Испании Марию Романову (хотя она отрицает, что имеет подданство этой страны) упорно величают «великой княгиней» и «главой дома Романовых»? Декрет Временного правительства России от 12 (25) марта 1917 года, упразднявший сословные отличия и дворянские титулы, пока никто не отменял. Какой юридический статус имеет «дом Романовых» в Российской Федерации?
Похоже, всё, что относится к пресловутой династии, выведено из-под действия российских законов и обладает некой экстерриториальностью. А точнее — ставится выше гражданских законов. Как будто это уже и впрямь царствующая династия.
В этой связи вспоминается проходившая в 1988 году выставка посвящённая 1000-летию «художественной культуры Руси». Напрямую приурочить её к 1000-летия «крещения Руси» было ещё нельзя по идеологическим соображениям, но легализация религии шла уже полным ходом: в состав оргкомитета выставки впервые за советский период были включены епископы Московской патриархии. В этом плане устроитель романовской выставки Георгий Шевкунов (архимандрит РПЦ МП Тихон) сразу расставил точки над «i». По Шевкунову Романовы-Гольштейн-Готторпы до сих пор царят в Российской Федерации.
А может и правда, забыть про печальный урок истории и попробовать заново ввести монархию? Хотя даже в этой перспективе неясно, какое отношение международные самозванцы «дом Романовых» имеют к России и её народу? С другой стороны, правовые основания, похоже давно не волнуют правителей нашего государства...
Только тогда уж не путайтесь, господа товарищи бывшие советские: честь отдают при наличии фуражки, а крестятся при пустой голове!
Текст: Ярослав Бутаков, кандидат исторических наук
Прямая линия наследования по женской линии в доме Романовых пресеклась (по мужской она пресеклась ещё ранее, в 1730, когда умер Пётр II).
Готовясь к этому, Елизавета сделала своим наследником сына своей покойной сестры Анны Петровны . Таким образом, родоначальником Гольштейн-Готторп-Романовых на престоле Российской империи стал герцог Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, внук по матери императора Петра Великого. После перехода в православие он получил имя великого князя Петра Фёдоровича, а после смерти Елизаветы стал российским императором Петром III. Его потомки в России именовались династией Романовых.
Ранее, в 1733 году аналогичным образом попыталась действовать императрица Анна Иоанновна , дочь царя Ивана V. Будучи бездетной и не желая передавать престол потомкам своего дяди Петра Великого, она пригласила в Россию принцессу Елизавету Екатерину Христину Мекленбург-Шверинскую (дочь своей покойной сестры царевны Екатерины Иоанновны). Потенциальная наследница в православии приняла имя Анна Леопольдовна , однако трон достался не ей, а её сыну от заключенного в 1739 году брака с герцогом Антоном-Ульрихом Брауншвейгским императору Иоанну Антоновичу . Он и все его братья и сестры (Брауншвейгское семейство) принадлежат к Брауншвейгской ветви Романовых. Однако наличие живой «дщери петровой» Елизаветы - более очевидной кандидатки на трон - не дало закрепиться этой ветви на престоле.
«Немцы» Романовы
Исторический анекдот
Принадлежность к Гольштейн-Готторпской династии, а также постоянные браки с немецкими принцессами (из всех супруг императоров только жена Александра III была датская принцесса , из датской линии того же Ольденбургского дома, что и Гольштейн-Готторпы) вызывали многочисленные упреки в засилье немцев на русском престоле.
Именование
«Юридически вопрос об именовании династии тогда не был урегулирован. Петр III сделать этого, по-видимому, не успел, а Екатерина II не стала привлекать к этой щекотливой проблеме особого внимания. В дальнейшем, по мере укрепления царствовавшей династии, необходимость в этом отпала» .
В 1911 году великие князья по просьбе императора устроили совещание, касающееся морганатических браков , где, в частности, обсуждались фамилии, которые должны присваиваться таким женам и потомству. Показательны высказанные там мнения: «…министр юстиции напомнил, что фамилия Романовых в Основных законах упоминается лишь при описании родового герба дома Романовых, Великие Князья и Княгини, Князья и Княжны Крови именуются в документах только именем и отчеством; по силе Учреждения об Императорской Фамилии членам оной не присвоено никакой фамилии, и, в частности, фамилии Романовых, а посему предоставление лицам, не принадлежащим к Царствующему Императорскому Дому, фамилии князей Романовых, по-видимому явилось бы дарованием им особого преимущества, по сравнению с лицами, пользующимися правами Членов Императорского Дома» . В итоге унификации не было сделано.
Готский альманах
Продолжительное время на это в России не обращали внимания, пока, наконец, императрица Александра Федоровна , болезненно относившаяся к теме «немецкости», потребовала от редакции справочника убрать первые два элемента. В противном случае она угрожала запретить ввоз этого ежегодника в Россию. Начальник канцелярии министерства императорского двора А. А. Мосолов описывает в своих воспоминаниях, что был вынужден заметить, что «по мнению редакции „Альманаха“, наименование династии исторически точно (император Павел - сын герцога Петра Гольштейн-Готторпского) и изменено быть не может» . По его утверждению, запретить альманах тем более нельзя, «так как [запрет] вызовет общеевропейский скандал. Самый аристократический, легитимистический „Альманах“ запрещен для ввоза в Россию. Конечно, доищутся до этих двух слов, вызвавших запрещение; пойдут пересуды по всей столице и за границей, „Альманах“ будет тайно ввозиться в Россию дипломатами и даст пищу для обсуждения деликатного династического вопроса, совершенно широкой публике неизвестного. Поверьте, Ваше Величество, годами печатают этот заголовок, и никто на него не обращает внимания. Лучше его игнорировать, чем подымать шум» .
Герб
 Соединённый герб Гольштейн-Готторп-Романовых входил в Большой Герб Российской империи .
Соединённый герб Гольштейн-Готторп-Романовых входил в Большой Герб Российской империи .
Описание Родового Его Императорского Величества герба:
«Щит рассечённый.
- Вправо - герб рода Романовых : в серебряном поле червлёный гриф, держащий золотые меч и тарч, увенчанный малым орлом, на чёрной кайме восемь оторванных львиных голов, четыре золотые и четыре серебряные.
- Влево - герб Шлезвиг-Голштинский: щит четверочастный с особою внизу оконечностью и малым в середине щитом.
- В первой червлёной части - герб норвежский: золотой коронованный лев с серебряною алебардою,
- во второй золотой части - герб шлезвигский: два лазуровые леопардные льва,
- в третьей червлёной части - герб голштинский: пересечённый малый щит, серебряный и червлёный, вокруг оного серебряный, разрезанный на три части, лист крапивы и три серебряные гвоздя с концами к углам щита,
- в четвёртой части - герб стормарнский: серебряный лебедь с чёрными лапами и золотою на шее короною,
- в червлёной оконечности - герб дитмарсенский: золотой с поднятым мечом всадник на серебряном коне, покрытом чёрной тканью,
- средний малый щит также рассечённый:
- в правой половине герб ольденбургский - на золотом поле два червлёные пояса,
- в левой - герб дельменгорстский - в лазуревом поле золотой, с острым внизу концом крест.
Этот малый щит увенчан велико-герцогскою короною…».
Greater Coat of Arms of the Russian Empire 1700x1767 pix Igor Barbe 2006.jpg
Большой герб Российской империи . Родовой герб расположен внизу
Средний герб Российской Империи - герб Романовых.jpg
Соединённый герб Гольштейн-Готторп-Романовых (фрагмент Большого герба Империи)
CoA of the House Holstein-Gottorp.png
Герб Шлезвиг-Голштинский (Гольштейн-Готтропский)
Crown of the Grand Duke of Luxembourg.svg
Геральдическая корона великого герцогства Люксембургского, аналогичная использованной в этом гербе
Список членов
См. также
Напишите отзыв о статье "Гольштейн-Готторп-Романовы"
Примечания
Библиография
- . // Составилъ В. Дурасов. - Ч. I. - Градъ Св. Петра, 1906
|
||||||||||
Отрывок, характеризующий Гольштейн-Готторп-Романовы
В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет.Наташе не хотелось ехать, но нельзя было отказаться от ласковости Марьи Дмитриевны, исключительно для нее предназначенной. Когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца и поглядевшись в большое зеркало, увидала, что она хороша, очень хороша, ей еще более стало грустно; но грустно сладостно и любовно.
«Боже мой, ежели бы он был тут; тогда бы я не так как прежде, с какой то глупой робостью перед чем то, а по новому, просто, обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его смотреть на меня теми искательными, любопытными глазами, которыми он так часто смотрел на меня и потом заставила бы его смеяться, как он смеялся тогда, и глаза его – как я вижу эти глаза! думала Наташа. – И что мне за дело до его отца и сестры: я люблю его одного, его, его, с этим лицом и глазами, с его улыбкой, мужской и вместе детской… Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. Я не вынесу этого ожидания, я сейчас зарыдаю», – и она отошла от зеркала, делая над собой усилия, чтоб не заплакать. – «И как может Соня так ровно, так спокойно любить Николиньку, и ждать так долго и терпеливо»! подумала она, глядя на входившую, тоже одетую, с веером в руках Соню.
«Нет, она совсем другая. Я не могу»!
Наташа чувствовала себя в эту минуту такой размягченной и разнеженной, что ей мало было любить и знать, что она любима: ей нужно теперь, сейчас нужно было обнять любимого человека и говорить и слышать от него слова любви, которыми было полно ее сердце. Пока она ехала в карете, сидя рядом с отцом, и задумчиво глядела на мелькавшие в мерзлом окне огни фонарей, она чувствовала себя еще влюбленнее и грустнее и забыла с кем и куда она едет. Попав в вереницу карет, медленно визжа колесами по снегу карета Ростовых подъехала к театру. Поспешно выскочили Наташа и Соня, подбирая платья; вышел граф, поддерживаемый лакеями, и между входившими дамами и мужчинами и продающими афиши, все трое пошли в коридор бенуара. Из за притворенных дверей уже слышались звуки музыки.
– Nathalie, vos cheveux, [Натали, твои волосы,] – прошептала Соня. Капельдинер учтиво и поспешно проскользнул перед дамами и отворил дверь ложи. Музыка ярче стала слышна в дверь, блеснули освещенные ряды лож с обнаженными плечами и руками дам, и шумящий и блестящий мундирами партер. Дама, входившая в соседний бенуар, оглянула Наташу женским, завистливым взглядом. Занавесь еще не поднималась и играли увертюру. Наташа, оправляя платье, прошла вместе с Соней и села, оглядывая освещенные ряды противуположных лож. Давно не испытанное ею ощущение того, что сотни глаз смотрят на ее обнаженные руки и шею, вдруг и приятно и неприятно охватило ее, вызывая целый рой соответствующих этому ощущению воспоминаний, желаний и волнений.
Две замечательно хорошенькие девушки, Наташа и Соня, с графом Ильей Андреичем, которого давно не видно было в Москве, обратили на себя общее внимание. Кроме того все знали смутно про сговор Наташи с князем Андреем, знали, что с тех пор Ростовы жили в деревне, и с любопытством смотрели на невесту одного из лучших женихов России.
Наташа похорошела в деревне, как все ей говорили, а в этот вечер, благодаря своему взволнованному состоянию, была особенно хороша. Она поражала полнотой жизни и красоты, в соединении с равнодушием ко всему окружающему. Ее черные глаза смотрели на толпу, никого не отыскивая, а тонкая, обнаженная выше локтя рука, облокоченная на бархатную рампу, очевидно бессознательно, в такт увертюры, сжималась и разжималась, комкая афишу.
– Посмотри, вот Аленина – говорила Соня, – с матерью кажется!
– Батюшки! Михаил Кирилыч то еще потолстел, – говорил старый граф.
– Смотрите! Анна Михайловна наша в токе какой!
– Карагины, Жюли и Борис с ними. Сейчас видно жениха с невестой. – Друбецкой сделал предложение!
– Как же, нынче узнал, – сказал Шиншин, входивший в ложу Ростовых.
Наташа посмотрела по тому направлению, по которому смотрел отец, и увидала, Жюли, которая с жемчугами на толстой красной шее (Наташа знала, обсыпанной пудрой) сидела с счастливым видом, рядом с матерью.
Позади их с улыбкой, наклоненная ухом ко рту Жюли, виднелась гладко причесанная, красивая голова Бориса. Он исподлобья смотрел на Ростовых и улыбаясь говорил что то своей невесте.
«Они говорят про нас, про меня с ним!» подумала Наташа. «И он верно успокоивает ревность ко мне своей невесты: напрасно беспокоятся! Ежели бы они знали, как мне ни до кого из них нет дела».
Сзади сидела в зеленой токе, с преданным воле Божией и счастливым, праздничным лицом, Анна Михайловна. В ложе их стояла та атмосфера – жениха с невестой, которую так знала и любила Наташа. Она отвернулась и вдруг всё, что было унизительного в ее утреннем посещении, вспомнилось ей.
«Какое право он имеет не хотеть принять меня в свое родство? Ах лучше не думать об этом, не думать до его приезда!» сказала она себе и стала оглядывать знакомые и незнакомые лица в партере. Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной, кверху зачесанной копной курчавых волос, в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него столпившись стояла самая блестящая молодежь Москвы, и он видимо первенствовал между ними.
Граф Илья Андреич, смеясь, подтолкнул краснеющую Соню, указывая ей на прежнего обожателя.
– Узнала? – спросил он. – И откуда он взялся, – обратился граф к Шиншину, – ведь он пропадал куда то?
– Пропадал, – отвечал Шиншин. – На Кавказе был, а там бежал, и, говорят, у какого то владетельного князя был министром в Персии, убил там брата шахова: ну с ума все и сходят московские барыни! Dolochoff le Persan, [Персианин Долохов,] да и кончено. У нас теперь нет слова без Долохова: им клянутся, на него зовут как на стерлядь, – говорил Шиншин. – Долохов, да Курагин Анатоль – всех у нас барынь с ума свели.
В соседний бенуар вошла высокая, красивая дама с огромной косой и очень оголенными, белыми, полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка больших жемчугов, и долго усаживалась, шумя своим толстым шелковым платьем.
Наташа невольно вглядывалась в эту шею, плечи, жемчуги, прическу и любовалась красотой плеч и жемчугов. В то время как Наташа уже второй раз вглядывалась в нее, дама оглянулась и, встретившись глазами с графом Ильей Андреичем, кивнула ему головой и улыбнулась. Это была графиня Безухова, жена Пьера. Илья Андреич, знавший всех на свете, перегнувшись, заговорил с ней.
– Давно пожаловали, графиня? – заговорил он. – Приду, приду, ручку поцелую. А я вот приехал по делам и девочек своих с собой привез. Бесподобно, говорят, Семенова играет, – говорил Илья Андреич. – Граф Петр Кириллович нас никогда не забывал. Он здесь?
– Да, он хотел зайти, – сказала Элен и внимательно посмотрела на Наташу.
Граф Илья Андреич опять сел на свое место.
– Ведь хороша? – шопотом сказал он Наташе.
– Чудо! – сказала Наташа, – вот влюбиться можно! В это время зазвучали последние аккорды увертюры и застучала палочка капельмейстера. В партере прошли на места запоздавшие мужчины и поднялась занавесь.
Как только поднялась занавесь, в ложах и партере всё замолкло, и все мужчины, старые и молодые, в мундирах и фраках, все женщины в драгоценных каменьях на голом теле, с жадным любопытством устремили всё внимание на сцену. Наташа тоже стала смотреть.
На сцене были ровные доски по средине, с боков стояли крашеные картины, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых, в обтяжку, панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками.
Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться.
После деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, всё это было дико и удивительно ей. Она не могла следить за ходом оперы, не могла даже слышать музыку: она видела только крашеные картоны и странно наряженных мужчин и женщин, при ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших; она знала, что всё это должно было представлять, но всё это было так вычурно фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них. Она оглядывалась вокруг себя, на лица зрителей, отыскивая в них то же чувство насмешки и недоумения, которое было в ней; но все лица были внимательны к тому, что происходило на сцене и выражали притворное, как казалось Наташе, восхищение. «Должно быть это так надобно!» думала Наташа. Она попеременно оглядывалась то на эти ряды припомаженных голов в партере, то на оголенных женщин в ложах, в особенности на свою соседку Элен, которая, совершенно раздетая, с тихой и спокойной улыбкой, не спуская глаз, смотрела на сцену, ощущая яркий свет, разлитый по всей зале и теплый, толпою согретый воздух. Наташа мало по малу начинала приходить в давно не испытанное ею состояние опьянения. Она не помнила, что она и где она и что перед ней делается. Она смотрела и думала, и самые странные мысли неожиданно, без связи, мелькали в ее голове. То ей приходила мысль вскочить на рампу и пропеть ту арию, которую пела актриса, то ей хотелось зацепить веером недалеко от нее сидевшего старичка, то перегнуться к Элен и защекотать ее.
В одну из минут, когда на сцене всё затихло, ожидая начала арии, скрипнула входная дверь партера, на той стороне где была ложа Ростовых, и зазвучали шаги запоздавшего мужчины. «Вот он Курагин!» прошептал Шиншин. Графиня Безухова улыбаясь обернулась к входящему. Наташа посмотрела по направлению глаз графини Безуховой и увидала необыкновенно красивого адъютанта, с самоуверенным и вместе учтивым видом подходящего к их ложе. Это был Анатоль Курагин, которого она давно видела и заметила на петербургском бале. Он был теперь в адъютантском мундире с одной эполетой и эксельбантом. Он шел сдержанной, молодецкой походкой, которая была бы смешна, ежели бы он не был так хорош собой и ежели бы на прекрасном лице не было бы такого выражения добродушного довольства и веселия. Несмотря на то, что действие шло, он, не торопясь, слегка побрякивая шпорами и саблей, плавно и высоко неся свою надушенную красивую голову, шел по ковру коридора. Взглянув на Наташу, он подошел к сестре, положил руку в облитой перчатке на край ее ложи, тряхнул ей головой и наклонясь спросил что то, указывая на Наташу.
– Mais charmante! [Очень мила!] – сказал он, очевидно про Наташу, как не столько слышала она, сколько поняла по движению его губ. Потом он прошел в первый ряд и сел подле Долохова, дружески и небрежно толкнув локтем того Долохова, с которым так заискивающе обращались другие. Он, весело подмигнув, улыбнулся ему и уперся ногой в рампу.
– Как похожи брат с сестрой! – сказал граф. – И как хороши оба!
Шиншин вполголоса начал рассказывать графу какую то историю интриги Курагина в Москве, к которой Наташа прислушалась именно потому, что он сказал про нее charmante.
Первый акт кончился, в партере все встали, перепутались и стали ходить и выходить.
Борис пришел в ложу Ростовых, очень просто принял поздравления и, приподняв брови, с рассеянной улыбкой, передал Наташе и Соне просьбу его невесты, чтобы они были на ее свадьбе, и вышел. Наташа с веселой и кокетливой улыбкой разговаривала с ним и поздравляла с женитьбой того самого Бориса, в которого она была влюблена прежде. В том состоянии опьянения, в котором она находилась, всё казалось просто и естественно.
Голая Элен сидела подле нее и одинаково всем улыбалась; и точно так же улыбнулась Наташа Борису.
Ложа Элен наполнилась и окружилась со стороны партера самыми знатными и умными мужчинами, которые, казалось, наперерыв желали показать всем, что они знакомы с ней.
Курагин весь этот антракт стоял с Долоховым впереди у рампы, глядя на ложу Ростовых. Наташа знала, что он говорил про нее, и это доставляло ей удовольствие. Она даже повернулась так, чтобы ему виден был ее профиль, по ее понятиям, в самом выгодном положении. Перед началом второго акта в партере показалась фигура Пьера, которого еще с приезда не видали Ростовы. Лицо его было грустно, и он еще потолстел, с тех пор как его последний раз видела Наташа. Он, никого не замечая, прошел в первые ряды. Анатоль подошел к нему и стал что то говорить ему, глядя и указывая на ложу Ростовых. Пьер, увидав Наташу, оживился и поспешно, по рядам, пошел к их ложе. Подойдя к ним, он облокотился и улыбаясь долго говорил с Наташей. Во время своего разговора с Пьером, Наташа услыхала в ложе графини Безуховой мужской голос и почему то узнала, что это был Курагин. Она оглянулась и встретилась с ним глазами. Он почти улыбаясь смотрел ей прямо в глаза таким восхищенным, ласковым взглядом, что казалось странно быть от него так близко, так смотреть на него, быть так уверенной, что нравишься ему, и не быть с ним знакомой.
Гольштейн-Готторпы (нем. Holstein-Gottorp , или Holstein-Gottorf ) - немецкая герцогская династия, младшая ветвь Ольденбургской династии, правившая в части Шлезвиг-Гольштейна в 1544-1773 годах, после его раздела на 3 части, когда восточная часть с замком Готторп досталась сыну датского короля Фредерика I - Адольфу.
В период с 1751 по 1818 год представители одной из ветвей династии были монархами в Швеции. В 1761 году готторпский герцог Карл Пётр Ульрих стал императором России под именем Петра III. В связи с этим династию русских царей начиная с Петра III в специальной литературе по генеалогии иногда именуют «Гольштейн-Готторп-Романовыми».
В 1773 году владения Гольштейн-Готторпов в Шлезвиг-Гольштейне были обменяны на Ольденбург и Дельменхорст, что стало решением так называемого Готторпского вопроса.
Представители династии:
Адольф Ольденбургский (1526-1586) герц. Готторп, жена - Кристина фон Гессен (1543-1604)
Фридрих II (1568-1687)
Филипп (1570-1590)
Иоганн Адольф (1575-1615) жена - Августа Датская (1580-1639)
Иоганн Фридрих (1579-1634) архиепископ Бременский
София (1569-1634) замужем за герцогом Иоганном V фон Мекленбург
Кристина (1573-1625) замужем за Карлом IX королем Швеции.
Потомки Иоганна Адольфа:
сын - Фридрих III (1597-1659), жена - Мария Саксонская (1610-1684) внук - Кристиан Альбрехт (1641-1695)
Сыновья Кристиана Альбрехта:
Фридрих IV (1671-1702), жена - Гедвига София Шведская (1681-1708)
Кристиан Август (1673-1726)
Потомки Фридриха IV:
сын - Карл Фридрих (1700-1739), жена - Анна Петровна Романова
внук - Карл Пётр Ульрих, император Пётр III
Потомки Кристиана Августа:
Адольф Фридрих (1710-1771) с 1751 года король Швеции, жена - Ульрика Луиза Прусская (1720-1782)
Иоганна Елизавета замужем за Христианом Августом герцогом Ангальт-Цербстским.
Фридрих Август (1711-1785) герцог Ольденбургский, жена - Фредерика фон Гессен-Кассель (1722-1787). Император Павел I отказался от титула герцога Ольденбургского в его пользу, тем самым решив Готторпский вопрос. Его дочь, Гедвига, вышла замуж за короля Швеции Карла XIII.
Георг (1719-1763),
сын последнего - Пётр Фридрих Людвиг (1755-1829) герцог Ольденбургский, после смерти Фридриха Августа, был регентом при его недееспособном сыне Вильгельме, а затем унаследовал герцогскую корону. Его потомки составили династию великих герцогов Ольденбургских тесно связанную с Россией.
Императорские
Габсбурги
Лотарингские Романовы Готторпские
Гогенцоллерны Бонапарты
Королевские и
царские
Бурбоны (Орлеанские
Испанские Неаполитанские)
Браганса Вельфы Ганноверские Виттельсбахи
Веттины Альбертинские и Эрнестинские
Нассау Оранские Гогенцоллерны Вюртемберги Бернадоты
Ольденбурги Глюксбургские Савойя
Обреновичи Карагеоргиевичи Негоши Зогу
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гольштейн-Готторпы
Гольштейн-Готторпский вопросОдной из причин Отечественной войны 1812 года был так называемый Гольштейн-Готторпский вопрос, занимавший видное место в политике Европы XVIII – нач. XIX вв.
Династия герцогов Гольштейн-Готторп – ветвь графов Ольденбург, правила герцогством Шлезвиг-Гольштейн на границе с Данией. В 1725 г. герцоги породнились с императорским домом Романовых (благодаря браку наследника с дочерью Петра I Анной). В соседней Дании правила другая ветвь Ольденбургов – Глюксбурги. Эти ветви одной династии неоднократно враждовали друг с другом в итоге чего Шлезвиг-Гольштейн был оккупирован датчанами. Однако, в руках обиженных Гольштейн-Готторпов появилась «козырная карта» - новый наследник герцогства, а по совместительству и русский император Петр III. В 1761 г. ему не хватило считанных недель, чтобы довести до конца свой замысел – напасть на Данию. Хотя война не состоялась по причине свержения Петра Федоровича, тем не менее, этот демарш произвел большое впечатление на датчан, и с тех пор они стремились любыми путями полюбовно договориться с русскими Гольштейн-Готторпами. В 1773 г. компромисс был достигнут – датский король Кристиан V и великий князь Павел Петрович заключили договор об обмене владениями. Павел отказывался от прав на Шлезвиг-Гольтейн, а взамен получал домен унаследованный Глюксбургами от вымершей в XVII в. династии Ольденбургов – графства Ольденбург:
И графство Дельменгорст, в результате объединения двух ленов было учреждено герцогство Ольденбург-Дельменгорст, герб коего состоял из гербов двух составляющих его графств:
Однако Павел недолго правил Ольденбургом (хотя и успел отчеканить собственные талеры) и в том же году уступил герцогство (не совсем добровольно, очевидно, с маминой подачи) родственнику из младшей ветви Гольштейн-Готторпов – двоюродному брату Фридриху-Августу, который имел титул князя-епископа Любекского. Фридрих не владел всем Любеком, который являлся вольным городом, но имел в самом городе и его округе важные имущественные права, собственный двор и даже дип. представительства иностранных государств.
Екатерина демонстрировала поразительное равнодушие к своим владениям в Германии – одаривала ими бедных родственников направо и налево. А судьба между тем как на грех благоволила к русским Гольштейн – Готторпам. Не успев избавиться от одного государства в Германии, они тут же унаследовали другое – в 1793 г. вымерла ветвь князей Ангальт-Цербстких. Основная территория княжества перешла старшей линии князей Ангальт, но при этом Екатерине, как родной сестре последнего умершего князя достался удел – графство Эверланд (совр. Йевер). Императрица и здесь к наследству отнеслась наплевательски, уступив его во временное владение вдове брата.
Однако взошедший на престол Павел резко поменял ситуацию. Уже 16 ноября 1796 г. он повелел учредить при коллегии иностранных дел Российской империи экспедицию для управления гольштинскими-ангальт-цербстскими и эвернскими делами. Сам по себе этот шаг включал германские владения Гольштейн-Готторпов в государственную структуру Российской империи и создавал важный юридический прецедент. С тех пор на протяжении 11 лет графство Эверланд (Йевер) управлялось русским правительством. Герб графства представлял из себя золотого льва на голубом фоне.
Между тем семейства германских герцогов продолжали благополучно вымирать и короны против воли Романовых-Гольштейн-Готторп сами сыпались им на головы. В 1785 г. умер Фридрих-Август, герцог Ольденбургский, его сын Вильгельм оказался больным и неспособным к правлению, потомства не имел. Таким образом становилось очевидно, что по смерти последнего герцогство Ольденбург вновь отойдет русской линии Гольштейн-Готторпов, причем вместе с правами князя-епископа Любекского, герб коего уже украсил общий герб герцогства Ольденбург. В такой ситуации православному самодержцу пришлось бы исполнять обязанности лютеранского епископа в Любеке.
Однако в Европе наступала эпоха наполеоновских войн, а в России эпоха Александра I, когда одной из важнейших целей внешней политики Российской империи стало желание как можно лучше пристроить и обеспечить всех даже самых захудалых немецких принцев. И вот на горизонте появилась такая загадочная фигура как принц Петр Фридрих Людвиг, коему было суждено сыграть роковую роль в судьбе русских владений в Германии. Объяснить, какое отношение этот человек имел к правам на герцогство Ольденбург, весьма непросто. Он являлся сыном принца Георга Людвига Голштинского и Шлезвигского, который принадлежал к младшей ветви Голштинских герцогов (т.е. не имел наследственных прав на Шлезвиг-Гольштейн в отличие от старшей ветви Гольштейн-Готторп-Романовых) и доводился имп. Петру III двоюродным дядей. Не имея собственного государства, Георг служил в русской армии генерал-майором (правда жил-то он в Германии, а из России ему высылали генеральское жалование). Петр III вызвал этого «военачальника» сразу же по восшествии на престол и произвел его в генерал-фельдмаршалы. После смерти Петра Федоровича «генералу-фельдмаршалу» срочно пришлось подать в отставку и уехать из России в Германию, где он вскоре и умер. Осиротев, Петр Фридрих Людвиг повторил карьеру папеньки и также приехал «послужить» верой и правдой России. Итак, Павлу Петровичу – русскому цесаревичу и одновременно герцогу Ольденбурга Петр-Фридрих-Людвиг доводился уже троюродным дядей. Ввиду смерти герцога Фридриха-Августа и неспособности его сына Вильгельма к правлению Петр-Фридрих-Людвиг назначается администратором (считай приказчиком) герцогства Ольденбург. Спустя 20 лет после сего события на границах герцогства появились легионы Бонапарта.
В 1805 г. Наполеон без лишних церемоний вышвырнул герцога и его администратора из Ольденбурга. Однако два года спустя при заключении Тильзитского мира герцог был восстановлен в правах. Одновременно решилась судьба и Эверланда, Россия после 11 лет владения продала графство Голландскому королевству (которым управлял пасынок Бонапарта).
А далее волею судьбы герцогство Ольденбург оказалось в эпицентре конфликта двух величайших империй Европы.
Помнит ли кто-нибудь, что собственно послужило поводом для развязывания Наполеоном Бонапартом войны 1812 г.? Мало кто способен вспомнить «с чего всё началось», ибо даже у Тарле в монографии «Наполеон» нет прямых указаний на Ольденбургский инцидент, а лишь содержится туманный намек на этот случай. Но в труде генерал-майора Генерального штаба Е. И. Мартынова «Обязанности политики по отношению к стратегии» (1899 г.) имеется подробное описание этих событий:
«Однако франко-русский союз просуществовал недолго. Причин этому было несколько; но главная, приведшая к окончательному разрыву, заключалась в том, что Император Александр желал остаться верным унаследованной ещё от отца роли «единственного защитника коронованных глав».
Декретом от 13 – го декабря 1810 г. Наполеон присоединил к Франции: Ганзейские города, герцогство Лауэнбургское и всё побережье Немецкого моря между нижними частями Эмса и Эльбы – под именем 32-го военного округа.
В середине этой обширной территории лежали владения герцога Ольденбургского, которому Наполеон взамен их назначил город Эрфурт с округом. Однако герцог, приходившийся дядею Императору Александру (это ошибка, если речь идет о Вильгельме, он троюродный брат Александру), остался недоволен такою меною и обратился с жалобой в Петербург. Дело его вызвало горячее заступничество нашего правительства. Наполеон отвечал, что присоединенные области ему необходимы ввиду борьбы с Англией, но что из уважения к своему союзнику он готов вознаградить герцога самым щедрым образом на счет его новых соседей. Тем не менее герцог продолжал упорствовать, и наше правительство, поддерживая его, поручило своему послу в Париже, князю Куракину, заявить формальный протест России против присоединения Ольденбурга. Долго французский министр иностранных дел убеждал князя Куракина не делать этого, указывая на то, что Франция нисколько не мешает осуществлению русских планов на Востоке и что взамен этого Россия должна предоставить ей свободу действий в Германии. В своем нежелании доводить дело до разрыва, французский министр дошёл даже до того, что отказался взять пакет, который так и остался у Куракина нераспечатанным.
Тогда наше правительство прибегло к энергической мере. Оно разослало всем кабинетам Европы ноту, в которой говорилось следующее: «Его императорское величество с удивлением узнал, что его союзник император французов включил в объем Франции герцогство Ольденбургское. Его Величество поставил на вид императору-союзнику своему, точно так же как ныне поставляет на вид всей Европе, что по Тильзитскому договору упрочено было спокойное владение герцогством законному своему государю. Его величество напомнил императору Наполеону и напоминает всем державам, что по договорам 1767 и 1773 гг. Россия уступила королю Датскому все свои владения в Голштинии и получила взамен их графства Ольденбург и Дельменгорст, которые по известным договорам, в коих необходимо долженствовали принять участие многие державы, возведены были во владетельное герцогство, в пользу младшего колена того же самого Гольштейн-Готторпского дома, к которому принадлежит и его Императорское величество. Император полагает, что это государство, ОБЯЗАННОЕ БЫТИЕМ СОИМ ВЕЛИКОДУШИЮ ЕГО ИМПЕРИИ, не может быть уничтожено без нарушения справедливости и прав его и потому находит себя вынуденным – оградить от имени своего и наследников своего престола все права и обязательства, установленные помянутыми договорами».
Этот протест, который большинство государей даже боялось принять от русских послов, произвел чрезвычайно неблагоприятное впечатление на Наполеона. Тем не менее, решившись во что бы то ни стало, в крайнем случае даже посредством войны с Россией, развязать себе руки для уничтожения Англии (что составляло конечную цель всей его политики), он продолжал делать попытки к соглашению с Императором Александром. Так в августе 1811 г., в присутствии многочисленных дипломатов, приносивших ему поздравления по случаю дня рождения, Наполеон обратился к нашему послу с длинною речью, в которой сказал между прочим следующее: « Вот уже шесть месяцев мы ведем переговоры, а дело не подвинулось вперед ни на шаг. Стоит ли небольшое герцогство, приносящее полмиллиона франков дохода того, чтобы из-за него ссорились велике державы, находившие так много действительных выгод во взаимном союзе. Несколько раз я уже просил вашего Государя, чтобы он сам назначил вознаграждение за герцогство где-либо в Германии; не могу объяснить себе его молчания. Вообще, я не могу понять вашей политики...»
Таким образом, желание оградить законные права монархов разрушило столь выгодный для нас союз с Францией и вызвало опустошительное нашествие 1812 года».
В 1813 г. в герцогство вступила доблестная Российская императорская армия. Александр распоряжался в своем герцогстве как наследник и фактический хозяин – вернул брата-герцога с «администратором», отнял у Голландии Эверланд (разумеется, не вернув денег) и великодушно «подарил» его от имени России в 1815 г. Ольденбургу. Сверх того Венский конгресс признал герцогство пострадавшей от Бонапарта стороной и присоединил к нему княжество Биркенфельд, находившееся, правда, в 300 км от ближайших границ Ольденбурга.
Именно тогда герб герцогства обрел свой почти законченный вид:
Здесь мы видим все владения герцога (читаем герб с верху вниз и справа налево):
1. Графство Ольденбург
2. Графство Дельменгорст
3. Епископство Любекское (золотой крест увенчанный короной)
4. Княжество Биркенфельд (красно-белая шахматка)
5. Графство Эверланд
Ольденбург к тому времени был хотя и небольшим, но вполне дееспособным государством, на карте Германии его владения обозначены сиреневым цветом:
площадью в 6000 кв. км. Отдельные территории - это Биркенфельд ближе к Рейну и владения Любекского епископа в Поморье. По переписи населения 1864 г. в нем проживало 395 тыс. человек (для сравнения: население столь оплакиваемой в России Аляски в 1867 г. составляло 12 тыс. человек). Герцогство считалось зажиточным даже по немецким меркам, главным образом за счет доступа к морю и интенсивной торговле.
И спустя 38 лет пробил звездный час «администратора» Петра-Фридриха. В 1823 г. трон герцога Ольденбургского становиться вакантным. Вопрос о том, кому отойдет герцогство, с точки зрения династического права собственно не стоял. Альтернатив просто не было – младшая ветвь герцогов вымерла окончательно и бесповоротно, а здравствует только старшая Гольштейн-Готторп-Романовы, которая и без того имела более предпочтительные права на герцогство, чем младшая ветвь. Причем имп. Александр I является прямым потомком Павла Петровича, официально являвшегося в 1773 г. герцогом Ольденбургским. Петр-Фридрих-Людвиг же доводится Александру I четвероюродным дедушкой, т.е. фактически никем...
Но великодушный защитник «коронованных глав» отказался от своих прав на герцогство в пользу Петра-Фридриха-Людвига, которого не только возвел в ранг владетельного герцога, но и добился от держав Европы, чтобы те признали за ним титул великого герцога.
На этом закончилась почти столетняя история русских владений в Германии и Гольштейн-Готторпского вопроса.




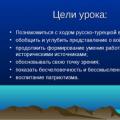 Презентация "Русско-турецкая война" по истории – проект, доклад
Презентация "Русско-турецкая война" по истории – проект, доклад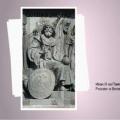 Презентация - Правление Ивана IV Грозного
Презентация - Правление Ивана IV Грозного Как написать роман или в помощь зрелому графоману
Как написать роман или в помощь зрелому графоману