Как назывался корабль семена дежнева. Семен дежнев
Какие открытия совершил Семен Дежнев, казачий атаман, путешественник и землепроходец, Вы узнаете из этой статьи.
Семен Дежнев что открыл? кратко
Великий русский путешественник 30 июня 1648 года отправился в большое плаванье, в котором он совершил грандиозное открытие – Берингов пролив, доказав, что между Азией и Северной Америкой есть проход. Все началось с того, что его команда из 90 человек отплыла из Колыми на семи кораблях в море, взяв курс на восточное направление. В ходе длительного плаванья три корабля утонули в шторме. Но Семену Ивановичу удалось успешно завершить экспедицию и стать первым человеком в истории, который вышел из Северного Ледовитого океана в Тихий океан. В сентябре 1648 года Дежнев дошел до Чукотского мыса (его впоследствии переименовали в честь Семена Ивановича). Его моряки вошли в пролив и обнаружили 2 маленьких острова. Так Семен Дежнев открыл пролив, который спустя только 80 лет достигнет Витус Беринг, именем которого он и будет назван. А те два маленьких острова, обнаруженные Дежневым, Беринг назовет Малым и Большим Диомидом. Семен Дежнев открытия которого на этом не закончились, прошел Берингов пролив с севера на юг, от Чукотки до Аляски. А Витус Беринг исследовал только его южную часть.
Другое важное открытие путешественника – это исследование устья реки Анадырь. В ее устье он основал острог и прожил здесь целых 10 лет. Недалеко от места обитания Семен Иванович нашел косу, которая была усеяна моржовыми клыками. Он дважды доставлял в Москву клыки и пушнину моржей. Дежнев был первым, кто подробно описал жизнь на Чукотке, природу и быт местных жителей.
Торговец пушниной. Первый известный мореплаватель , прошедший по Берингову проливу , соединяющему Северный Ледовитый океан с Тихим и разделяющему Азию и Северную Америку, Чукотку и Аляску , причём сделал это за 80 лет до Витуса Беринга , в 1648 году .
Примечательно, что Берингу не удалось пройти весь пролив целиком, а пришлось ограничиться плаванием только в его южной части, тогда как Дежнёв прошёл пролив с севера на юг, по всей его длине.
Биография
Родился в Великом Устюге, в каком возрасте попал в Сибирь - не установлено. В Сибири Дежнёв сначала служил рядовым казаком с 1635 года в Тобольске , а затем в Енисейске . Среди больших опасностей -1646 годов «смирил» якутов . Из Енисейска он с отрядом П. И. Бекетова в 1638 году перешёл в Якутский острог , только что основанный по соседству с ещё непокорёнными племенами инородцев. Уже в 1639-1640 гг. Дежнёв приводит в покорность туземного князя Сахея. В 1639 году был послан якутским приказчиком П. Ходырёвым на Вилюй для сбора ясака , в августе 1640 года Дежнёв примирил два якутских рода на реках Татта и Амга (притоки Алдана) и склонил к уплате ясака воинственного «князца» племени кангаласов Сахея.
В 1641 году Дежнёв, с партией в 15 человек, собирает ясак на реке Яне и благополучно доставляет его в Якутск, выдержав по дороге схватку с шайкой в 40 человек. В том же году вместе с Михаилом Стадухиным, Дежнёв отправился в поход на Оймякон для сбора ясака. В апреле 1642 года в стычке с воинственными «ламутскими тунгусами», как и многие другие казаки, был ранен. Потеряв лошадей, отряд попал в тяжёлое положение. Пришлось построить судно. Когда сошёл лёд, казаки спустились вниз по Оймякону и продолжили искать «неясачных людишек» в низовьях Индигирки . Но там сборщиков ясака уже было предостаточно, поэтому отряд отправился дальше на восток и дошёл до реки Алазеи . Здесь им встретился отряд такого же землепроходца десятника Дмитрия Михайлова по прозвищу Ярило Зырян. Дежнёв вновь проявил свой дипломатический талант, уговорив Зыряна соединиться с отрядом Стадухина под его началом.
Открытие Колымы
Летом 1643 года Семён Дежнёв в составе отряда землепроходцев под командованием Михаила Стадухина открыл реку Колыму. Казаки поднялись вверх по реке и основали Колымское зимовье, позже ставшее крупным острогом Среднеколымск - опорным пунктом русской колонизации в этих местах. В 1644 году Дежнёв основал ещё один острог, названный позднее Нижнеколымском . В 1645 году Стадухин и Зырян, с ясаком и половиной людей, отправились по реке Лене в Якутск, оставив в Колымском острожке Дежнёва и ещё 13 человек. Дмитрий Михайлов (Зырян) с дороги вернулся обратно, а между тем Дежнёву пришлось отразить нападение более 500 юкагиров, хотевших уничтожить малочисленный гарнизон острожка. На Колыме Дежнёв прослужил до лета 1647 года. Летом 1647 года корабли вышли в плавание, но крепкие льды закрыли им путь. Федот Попов и Семён Дежнёв возвратились на Колыму и стали дожидаться более благоприятного для похода времени.
Чукотская экспедиция
 20 июня 1648 года Федот Попов и Семён Дежнёв на кочах вышли в море. Три коча сразу потерялись в буре при выходе из устья Колымы в Ледовитый океан. Оставшиеся неуклонно пошли вперёд. В августе 1648 года пошёл ко дну ещё один коч. Около 20 сентября 1648 года Дежнёв и его спутники увидели тёмный и грозный Большой Каменный Нос, окаймлённый полосой пенных бурунов. Мимо Носа прошли лишь три судна: два коча Дежнёва и Попова и один - Герасима Анкудинова. Судно Дежнёва разбилось в Олюторском заливе южнее устья реки Анадырь. Отряд Дежнёва на лыжах и нартах 10 недель через Корякское нагорье добирался до реки Анадырь, где он и зазимовал. Летом 1649 года на построенных лодках Дежнёв поднялся вверх по Анадырю на 600 км. Тут, на среднем течении реки Анадырь, было устроено зимовьё, названное потом Анадырским острогом. На верхнем течении Анадыря русские встретили кочевых анаулов - незнакомое им юкагирское племя. Только на третий год к Дежнёву пришло подкрепление. Но это была не смена. Казак Семён Мотора искал сухопутную дорогу между Колымой и Анадырем через горный проход, он-то и выручил Дежнёва. Этим путём, более удобным, нежели морской, воспользовался и Дежнёв, для отсылки в Якутск собранной им моржовой кости и пушнины.
20 июня 1648 года Федот Попов и Семён Дежнёв на кочах вышли в море. Три коча сразу потерялись в буре при выходе из устья Колымы в Ледовитый океан. Оставшиеся неуклонно пошли вперёд. В августе 1648 года пошёл ко дну ещё один коч. Около 20 сентября 1648 года Дежнёв и его спутники увидели тёмный и грозный Большой Каменный Нос, окаймлённый полосой пенных бурунов. Мимо Носа прошли лишь три судна: два коча Дежнёва и Попова и один - Герасима Анкудинова. Судно Дежнёва разбилось в Олюторском заливе южнее устья реки Анадырь. Отряд Дежнёва на лыжах и нартах 10 недель через Корякское нагорье добирался до реки Анадырь, где он и зазимовал. Летом 1649 года на построенных лодках Дежнёв поднялся вверх по Анадырю на 600 км. Тут, на среднем течении реки Анадырь, было устроено зимовьё, названное потом Анадырским острогом. На верхнем течении Анадыря русские встретили кочевых анаулов - незнакомое им юкагирское племя. Только на третий год к Дежнёву пришло подкрепление. Но это была не смена. Казак Семён Мотора искал сухопутную дорогу между Колымой и Анадырем через горный проход, он-то и выручил Дежнёва. Этим путём, более удобным, нежели морской, воспользовался и Дежнёв, для отсылки в Якутск собранной им моржовой кости и пушнины.
Дальнейшая судьба
В 1659 году Семён Дежнёв сдал команду над Анадырским островом и служилыми людьми сменившему его К. Иванову, но оставался в крае ещё до 1662 года , когда вернулся в Якутск вместе с И. Ерастовым. Оттуда Дежнёв с государевой казной, был послан в Москву, куда и прибыл, вероятно, к середине 1664 года . Сохранилась челобитная Дежнёва о выдаче ему жалованья, заслуженного им, но не полученного, за 19 лет, что и было исполнено. В 1665 году Дежнёв выехал обратно в Якутск и там служил до 1670 года , когда снова был послан с государевой казной в Москву, куда явился в 1672 году , где и умер.
Дежнёв составил чертёж реки Анадырь и части реки Анюй , в челобитных описал плавания по Анадырю, природу Анадырского края.
Память

- Его имя носят:
- В его честь названы улицы в следующих городах:
- в Москве (проезд Дежнёва (Северо-Восточный округ), назван в 1964 году)
- в Казани (названа в 1953 году)
- в Минске (названа в 1948 году)
- В 1948 году Советом Министров СССР учреждена Премия имени С. И. Дежнёва.
- В 1970 году дальневосточные ботаники Ю. Юрцев и А. Кожевников собрали на Чукотском полуострове гербарные образцы маленького (до 3 см высотой) растения с голыми стелющимися побегами. Растение относится к роду селезёночник и по некоторым морфологическим отличиям было выделено в 1972 году С. С. Харкевичем в отдельный эндемичный вид под названием селезёночника Дежнёва (Chrisosplenium dezhnevii Charkev. ) .
- Памятники:
- В центре Великого Устюга в 1971 году Дежнёву установлен памятник.
- В сентябре 2005 года в Якутске был открыт памятник Семёну Дежнёву, его жене-якутке Абакаяде Сючю и их сыну Любиму.
- В 1971 году был спущен на воду ледокол «Семён Дежнёв»
- Имя Семёна Дежнёва носил пассажирский теплоход Амурского речного пароходства (проект 860).
- В 1983 году на экраны вышел фильм «Семён Дежнёв », снятый на свердловской киностудии с Алексеем Булдаковым в главной роли.
- В 2001 году Банком России, в серии памятных монет «Освоение и исследование Сибири», выпущена монета «Экспедиция Ф. Попова и С. Дежнёва» номиналом 100 руб.
- В Новосибирске есть Командное речное училище имени С. И. Дежнёва, открытое 2 апреля 1943 года для подготовки специалистов со средне-специальным образованием для Западно-Сибирского речного пароходства.
- В 2009 году была выпущена почтовая марка России с изображением Дежнёва.
См. также
- Памятники, монеты, почтовые марки
Сочинения
Напишите отзыв о статье "Дежнёв, Семён Иванович"
Примечания
Литература
- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.
- Марков С. Н. Подвиг Семёна Дежнёва. - М .: Географгиз, 1948. - 88 с.
- Белов М. И. Семён Дежнёв. - М .: Морской транспорт, 1955.
- Белов М. И. . - М .: Мысль , 1973. - 224 с. - 50 000 экз. (обл.)
- Москва. Энциклопедия. Гл. ред. А. Л. Нарочницкий. - М.: «Советская Энциклопедия», 1980. - 688 с. с илл.
- Дёмин Л. М. Семён Дежнёв. - М .: Молодая гвардия , 1990. - 336, с. - (Жизнь замечательных людей. Малая серия). - 100 000 экз. (в пер.)
- Никитин Н. И. Землепроходец Семён Дежнёв и его время / Отв. ред. д-р истор. наук А. А. Преображенский. . - М .: РОССПЭН, 1999. - 192 с. - 1500 экз. - ISBN 5-8243-0018-6 .
Ссылки
- www.moscow-chukotka.com/?page_id=8
|
||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Дежнёв, Семён Иванович
И они обе засмеялись.– Ну, пойдем петь «Ключ».
– Пойдем.
– А знаешь, этот толстый Пьер, что против меня сидел, такой смешной! – сказала вдруг Наташа, останавливаясь. – Мне очень весело!
И Наташа побежала по коридору.
Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху, к шейке с выступавшими костями груди, легкими, веселыми шагами, с раскрасневшимся лицом, побежала вслед за Наташей по коридору в диванную. По просьбе гостей молодые люди спели квартет «Ключ», который всем очень понравился; потом Николай спел вновь выученную им песню.
В приятну ночь, при лунном свете,
Представить счастливо себе,
Что некто есть еще на свете,
Кто думает и о тебе!
Что и она, рукой прекрасной,
По арфе золотой бродя,
Своей гармониею страстной
Зовет к себе, зовет тебя!
Еще день, два, и рай настанет…
Но ах! твой друг не доживет!
И он не допел еще последних слов, когда в зале молодежь приготовилась к танцам и на хорах застучали ногами и закашляли музыканты.
Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, как с приезжим из за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь и краснея, сказала:
– Мама велела вас просить танцовать.
– Я боюсь спутать фигуры, – сказал Пьер, – но ежели вы хотите быть моим учителем…
И он подал свою толстую руку, низко опуская ее, тоненькой девочке.
Пока расстанавливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своей маленькой дамой. Наташа была совершенно счастлива; она танцовала с большим, с приехавшим из за границы. Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним, как большая. У нее в руке был веер, который ей дала подержать одна барышня. И, приняв самую светскую позу (Бог знает, где и когда она этому научилась), она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила с своим кавалером.
– Какова, какова? Смотрите, смотрите, – сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу.
Наташа покраснела и засмеялась.
– Ну, что вы, мама? Ну, что вам за охота? Что ж тут удивительного?
В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом – оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как то по балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецки хитрою улыбкой, и как только дотанцовали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:
– Семен! Данилу Купора знаешь?
Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. (Данило Купор была собственно одна фигура англеза.)
– Смотрите на папа, – закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.
Действительно, всё, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и всё более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой – женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.
– Батюшка то наш! Орел! – проговорила громко няня из одной двери.
Граф танцовал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцовать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, всё более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких выверток и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притопываньях, производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась всё более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимания и даже не старались о том. Всё было занято графом и Марьею Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтоб смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках, носясь вокруг Марьи Дмитриевны и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукой среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцующие остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.
– Вот как в наше время танцовывали, ma chere, – сказал граф.
– Ай да Данила Купор! – тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.
В то время как у Ростовых танцовали в зале шестой англез под звуки от усталости фальшививших музыкантов, и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безухим сделался шестой удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет; больному дана была глухая исповедь и причастие; делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами толпились, скрываясь от подъезжавших экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с знаменитым Екатерининским вельможей, графом Безухим.
Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, провожал главнокомандующего и что то несколько раз тихо повторил ему.
Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинув высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом испуганными глазами, пошел чрез длинный коридор на заднюю половину дома, к старшей княжне.
Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шопотом говорили между собой и замолкали каждый раз и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто нибудь выходил из нее или входил в нее.
– Предел человеческий, – говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его, – предел положен, его же не прейдеши.
– Я думаю, не поздно ли соборовать? – прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.
– Таинство, матушка, великое, – отвечало духовное лицо, проводя рукою по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос.
– Это кто же? сам главнокомандующий был? – спрашивали в другом конце комнаты. – Какой моложавый!…
– А седьмой десяток! Что, говорят, граф то не узнает уж? Хотели соборовать?
– Я одного знал: семь раз соборовался.
Вторая княжна только вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле доктора Лоррена, который в грациозной позе сидел под портретом Екатерины, облокотившись на стол.
– Tres beau, – говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, – tres beau, princesse, et puis, a Moscou on se croit a la campagne. [прекрасная погода, княжна, и потом Москва так похожа на деревню.]
– N"est ce pas? [Не правда ли?] – сказала княжна, вздыхая. – Так можно ему пить?
Лоррен задумался.
– Он принял лекарство?
– Да.
Доктор посмотрел на брегет.
– Возьмите стакан отварной воды и положите une pincee (он своими тонкими пальцами показал, что значит une pincee) de cremortartari… [щепотку кремортартара…]
– Не пило слушай, – говорил немец доктор адъютанту, – чтопи с третий удар шивь оставался.
– А какой свежий был мужчина! – говорил адъютант. – И кому пойдет это богатство? – прибавил он шопотом.
– Окотник найдутся, – улыбаясь, отвечал немец.
Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, понесла его больному. Немец доктор подошел к Лоррену.
– Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? – спросил немец, дурно выговаривая по французски.
Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.
– Сегодня ночью, не позже, – сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.
Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны.
В комнате было полутемно; только две лампадки горели перед образами, и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была установлена мелкою мебелью шифоньерок, шкапчиков, столиков. Из за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла.
– Ах, это вы, mon cousin?
Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже и теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком.
– Что, случилось что нибудь? – спросила она. – Я уже так напугалась.
– Ничего, всё то же; я только пришел поговорить с тобой, Катишь, о деле, – проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. – Как ты нагрела, однако, – сказал он, – ну, садись сюда, causons. [поговорим.]
– Я думала, не случилось ли что? – сказала княжна и с своим неизменным, каменно строгим выражением лица села против князя, готовясь слушать.
– Хотела уснуть, mon cousin, и не могу.
– Ну, что, моя милая? – сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу.
Видно было, что это «ну, что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба.
Княжна, с своею несообразно длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости.
– А мне то, – сказал он, – ты думаешь, легче? Je suis ereinte, comme un cheval de poste; [Я заморен, как почтовая лошадь;] а всё таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень серьезно.
Русским путешественникам посчастливилось выйти к Тихому океану, т. е. найти Северо-Восточный проход, о чем мечтали чуть ли не все европейские мореплаватели, особенно англичане и голландцы. В первой четверти XVII столетия и по суше, и по рекам русские землепроходцы продвигались на восток и добирались до устья Енисея, а затем и Лены. В 1643 г. Михаил Стадухин достиг устья Колымы. Самый последний, восточный участок прохода из Ледовитого океана в Тихий был открыт в 1648 г., в ходе плавания Семена Дежнёва и Федота Попова.
Принято считать, что родина Дежнёва - Великий Устюг, важный пункт на торговом пути из Вологды к Белому морю в XV-XVII вв. Многие его жители занимались торговлей, не раз ходили в дальние страны. Великий Устюг дал России покорителя Приамурья Ерофея Хабарова, исследователя Камчатки Владимира Атласова, мореплавателей XVIII в. Афанасия Бахова и Василия Шилова. Но есть сведения, что Семён Дежнёв родился намного севернее, на Пинеге. Если это так, выходит, он земляк Михаила Стадухина, еще одного выдающегося землепроходца и первооткрывателя.

В Сибирь Дежнёв попал в середине 1630-х гг., в составе большого отряда казаков, набранных специально для службы за Уралом. Некоторое время он служил в Тобольске, затем был переведен в Енисейск, а в 1638 г. в Ленский острог, участвовал в нескольких походах по притокам Лены для сбора ясака. Зимой 1640 г. Дежнёв служил на Яне в отряде Дмитрия Зыряна. Собрав ясак с местных жителей, Зырян решил идти на восток, к Алазее, а Дежнёва с ясачными собольими шкурками послал в Якутск. По дороге на Дежнёва напали эвенки (по другим источникам - эвены), которых казаки называли ламутскими тунгусами, и ранили его стрелой. В 1641 г. в составе отряда Стадухина он отправился на Оймякон. Весной следующего года во время стычки с эвенками Дежнёв снова был ранен, как и многие другие казаки. Лишившись ко всему прочему лошадей, отряд Стадухина соорудил кочи и поплыл вниз по Индигирке.
От ее устья казаки морем добрались до Алазеи, где встретили отряд Дмитрия Зыряна. Объединившись, летом 1643 г. они отправились дальше на восток и достигли устья Колымы. Поднявшись по ней, казаки построили зимовье, а затем перебрались назад, поближе к устью, где возник Нижнеколымский острог. Здесь Дежнёв прожил три года. В 1645 г. Стадухин и Зырян двинулись с собранным ясаком в Якутск, а в Нижнеколымске остался Дежнёв с еще 12 казаками. Им пришлось отразить несколько нападений юкагиров, но вскоре подоспела подмога: из Якутска вернулся Зырян.
Через некоторое время на Колыме появились торговцы и «промышленные» люди. Выловив здесь почти всех соболей, русские решили поискать счастья еще восточнее. Местные жители рассказывали, что там, на реке Погыче, вдоволь пушного зверья, а еще есть серебро. В 1646 г. на поиски таинственной Погычи морем отправились промысловики с кормщиком Исаем Игнатьевым. Их коч дошел лишь до Чаунской губы (примерно в 400 км от устья Колымы), берега которой населяли чукчи. Найти Погычу русским не удалось: путь им преградили льды. Пришлось возвращаться. Однако итоги плавания обнадеживали, ведь в ходе немого торга с чукчами удалось приобрести резные изделия из кости и моржовых клыков - товар сколь редкий, столь и ценный, в особенности за границей.
Организацией нового морского похода к Анадырю (уже в 1647 г. стало ясно, что Погыча и Анадырь - одна и та же река) занялся уроженец Холмогор Федот Попов, устюжский приказчик московского купца Василия Усова. Отряд, задачи которого состояли в поисках реки и моржовых лежбищ на побережье, а также в пушном промысле, включал несколько десятков промысловиков и Дежнёва, отвечавшего за сбор ясака: он пообещал сдать в казну 280 собольих шкурок. Летом 1647 г. четыре коча вышли из устья Колымы и повернули на восток. Однако их тоже подстерегали тяжелые льды, не позволившие судам продвинуться сколько-нибудь далеко.
По возвращении Попов начал готовить новую экспедицию. Похоже, неудача его только раззадорила - как и Дежнёва, который снова обратился к начальству с просьбой назначить его ответственным за сбор ясака. Но у него появился конкурент, казак Герасим Анкидинов, обязавшийся сдать государству еще больше пушнины, чем Дежнёв. Последнему пришлось вновь «повысить ставку», и лишь тогда он получил желаемую должность. Но Анкидинов все же вошел в состав экспедиции вместе со своими людьми, которых Дежнёв именовал не иначе как «ворами».
В 1648 г. из устья Колымы вышли семь кочей (шесть Попова и один Анкидинова), всего на них насчитывалось до сотни человек. Ледовая обстановка на этот раз оказалась благоприятнее, но зато все время штормило. Тем не менее кочи двигались на восток и благополучно миновали остров Айон, загораживающий вход в Чаунскую губу. В проливе Лонга, между материком и островом Врангеля, во время жестокого шторма два судна разбило льдами. Люди с них перебрались по льду на берег: некоторых впоследствии убили коряки (по другим данным - чукчи), остальные погибли от голода и холода. В конце лета, когда экспедиция уже была у края Азии, налетел на льдину и получил пробоину коч Анкидинова, но моряки перебрались на оставшиеся невредимыми суда.
Некоторые исследователи, впрочем, считают, что кочу Анкидинова удалось обогнуть Чукотку и разбился он уже в Тихом океане. А другие утверждают, что кроме двух кочей, затонувших в проливе Лонга, экспедиция потеряла еще два, якобы унесенных во время шторма куда-то к берегам Аляски. В истории этого плавания вообще много неясного. В те времена у русских путешественников не было принято вести вахтенные журналы и дневники, писать мемуары. Судить о походах и плаваниях XVII в. приходится по отпискам (отчетам) и челобитным (доносам и жалобам). Согласно самой распространенной версии, четыре коча прошли проливом, который много лет спустя назовут Беринговым, обогнули мыс Чукотский и вошли в Анадырский залив. Уже в конце сентября где-то на берегу залива на моряков напали чукчи и ранили Попова. Через неделю буря разбросала оставшиеся кочи, и судно Дежнёва отнесло далеко на юго-запад.
Шторм выбросил его на скалы, возможно, близ Олюторского мыса. Произошло это «после Покрова», т. е. в середине октября. После этого Дежнёв, как следует из его отписок, повел людей на северо-восток, через Корякское нагорье. И шли они десять недель, пока не добрались до низовьев реки Анадырь. Из 25 человек после этого перехода осталось в живых лишь 12. Но здесь много неясностей. Судя по отпискам, Дежнёв со своими спутниками двинулся в путь зимой, в лютый холод, когда с каждым днем становится все темнее, пока сутки не превращаются в сплошную ночь, да и с пропитанием проблемы более чем очевидные. Люди тогда, конечно, были не чета нынешним, и все же - уйти от моря с его птичьими базарами, рыбой, морскими зверями в горную тундру, где встретить какую-то живность очень трудно, тем более зимой?!
Скорее всего, Дежнёв зазимовал недалеко от места гибели коча, а уже летом 1649 г. отправился к Анадырю. И вообще, почему он думал, что, двигаясь в северо-восточном направлении, выйдет на Анадырь? Знал ли он, где протекает река и где находится ее устье? Но ведь в его челобитной нет ни слова о том, что коч подходил к устью Анадыря… Возможно, само место крушения находилось не у Олюторского мыса, а гораздо северо-восточнее - например, у мыса Наварин. Оттуда до устья Анадыря тоже далеко, зато берегом, да и поход на запад, поближе к знакомым местам, представляется гораздо более логичным.
От устья Анадыря, поднявшись на вновь построенных кочах вверх по реке, Дежнёв дошел до земель аннаулов (юкагиров) и соорудил зимовье, потом ставшее острогом. Он не забывал об основной своей задаче - добыть собольи шкурки, а самый простой способ ее решения состоял в сборе ясака с коренных жителей. Было это в 1649 г. Тем временем приказчик Нижнеколымского острога Василий Власьев отправил на юго-восток отряд объясачивать еще «не охваченное» население. Ограбив юкагиров в верховьях Малого Анюя, казаки узнали от заложников, что совсем рядом протекает большая река Анадырь, несущая свои воды на юго-восток. В 1650 г. отряд казаков и промысловиков под началом Семена Моторы вышел к Анадырю, где встретил людей Дежнёва. Они вместе двинулись «громить» юкагиров и собирать ясак. Чуть позже в верховьях Анадыря оказался Михаил Стадухин. Как свидетельствует челобитная Дежнёва, Стадухин шел за ним следом и грабил юкагиров, которые уже сдали ясак, а потом ограбил и самих Дежнёва с Моторой. Впрочем, вскоре Стадухин ушел на юг, к Охотскому морю.
А что же стало с Поповым и Анкидиновым после того, как кочи экспедиции разметало страшным штормом? Вполне вероятно, их отнесло далеко на юг, к берегам Камчатки. Есть свидетельства, что путешественники зимовали в устье реки Камчатки, а в 1649 г. Попов морем обошел полуостров и достиг мыса Южный на охотоморском побережье. Здесь его убили коряки, как и всех людей из его отряда. По другим данным, основанным на отписках Дежнёва, Попов и Анкидинов умерли от цинги, а товарищи их либо были убиты, либо разбежались.
Таким образом, Дежнёв и его спутники прошли морем до восточной окраины Азии, открыли Чукотский полуостров и пролив между Азией и Америкой. Дежнёв сообщил об островах Диомида и первым достиг устья Анадыря, Попов и Анкидинов, возможно, побывали на Камчатке. Печально: первооткрыватели северного пути на Восток не поняли, что же именно они открыли. Более того, донесения Дежнёва затерялись в Якутском архиве и были обнаружены только в 1736 г. Тем не менее потомки воздали должное Семену Дежнёву: его именем названы несколько островов в Арктике и мыс на северо-восточной оконечности Евразии.
Мало кто знает, как называется пролив, который открыл Дежнев. Немногое известно и о жизни этого человека. О выдающемся русского мореплавателя долгое время ничего не знали. Следует отметить, что до сих пор нет достаточного количества информации об истории путешествия, которое совершил Дежнев Семен Иванович. Что открыл этот человек и какое это имело значение, обсудим в данной публикации.
Из жизни Семена Ивановича Дежнева
Родился Дежнев в Великом Устюге предположительно в первых годах XVII в. Оттуда он ушел в Сибирь, где начал службу в Тобольске, а затем в Енисейске. В 1641 году он вместе с отправился в поход на Оймякон.
Будущий первопроходец Семен Дежнев принимал участие в основании Нижнеколымского острога, который стал опорной точкой русских путешественников, отправлявшихся на поиск выхода к устью реки Анадырь. Кроме того, он совершил несколько походов по Индигирке, Яне, до устья Лены. Однако Дежнева больше всего привлекала По слухам, здесь были большие запасы моржовой кости, которая высоко ценилась в России. В 1647 году он попал в экспедицию Ф. в составе которой совершил неудачную попытку добраться до устья реки Анадырь и обогнуть Чукотку. 63 путешественника на четырех судах двинулись по морю на восток. Однако путь им преградили большие льдины, и землепроходцы были вынуждены повернуть обратно.

Начало нового похода
После неудачного первого похода было принято решение совершить новое путешествие к устью реки Анадырь. 30 июня 1648 года экспедиция под командованием Семена Дежнева в составе 90 человек вышла из Колымы. Корабли двигались по морю в восточном направлении. Путешествие было очень тяжелым. В морских бурях пропало несколько кораблей экспедиции Дежнева (2 из них разбились о льдины, а еще 2 были унесены во время шторма). Семен Иванович в своих воспоминаниях отметил, что в пролив вошло только 3 коча (судна). Их возглавляли Дежнев, Анкундинов и Алексеев. Они достигли мыса, который именовали Чукотский Нос, и увидели несколько небольших островов. Так Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой.
Основание Анадырского острога
Пролив, который открыл Дежнев, решил важнейшую географическую задачу. Он стал доказательством того, что Америка является самостоятельным материком. Кроме того, это путешествие свидетельствовало о том, что из Европы в Китай существует путь через северные моря вокруг Сибири.
После того как суда прошли пролив, который открыл Дежнев, они вышли к Анадырскому заливу, а затем обогнули Олюторский полуостров. Корабль экспедиции, на котором находилось 25 человек, выбросило на берег. Отсюда путешественники пешим ходом двинулись на север. К началу 1649 года 13 человек достигли устья реки Анадырь. Затем Дежнев и его товарищи поднялись вверх по реке и заложили там зимовье. Кроме того, мореходы основали Анадырский острог. Здесь Дежнев и прожил 10 лет.

Исследования Дежнева
С 1649 по 1659 год Дежнев исследовал бассейны рек Анадырь и Анюй. Доклады о проделанной работе отправлялись в Якутск. В этих сообщениях был подробно описан пролив, открытый Дежневым в 1648 году, реки Анадырь и Анюй, а также были составлены чертежи местности. В 1652 году Семен Иванович открыл отмель, где располагалось лежбище моржей. После этого Дежневу удалось наладить промысел этого зверя в Анадырском заливе, который приносил большой доход России.
Дальнейшая судьба путешественника
В 1659 году Дежнев передал управление Анадырским острогом К. Иванову. Через год путешественник перебрался на Колыму. В 1661 году Семен Иванович Дежнев направился в Якутск, куда добрался только весной 1662 года. Оттуда он был послан в Москву, для того чтобы доставить государеву казну. Дежнев предоставил царю доклады с подробным описанием своих путешествий и исследований. В 1655 году Семену Ивановичу был пожалован чин казачьего атамана. О дальнейшей судьбе русского мореплавателя ничего не известно.

Значение открытия Семена Дежнева
Главная заслуга русского путешественника заключается в том, что он открыл проход из Ледовитого в Тихий океан. Он описал этот путь и составил его подробный чертеж. Несмотря на то что карты, разработанные Семеном Ивановичем, были очень упрощенными, с приблизительными расстояниями, они имели большое практическое значение. Пролив, который открыл Дежнев, стал точным свидетельством того, что Азию и Америку разделяет море. Кроме этого, экспедиция под руководством Семена Ивановича впервые добралась до устья реки Анадырь, где были открыты залежи моржей.
В 1736 году в Якутске впервые были найдены забытые доклады Дежнева. Из них стало известно, что русский мореплаватель не видел берегов Америки. Следует отметить, что спустя 80 лет после Семена Ивановича в южной части пролива плавала экспедиция Беринга, которая подтвердила открытие Дежнева. В 1778 году в этой местности побывал Кук, который был осведомлен только об экспедиции начала XVIII в. Именно он назвал этот
Дежнев Семён Иванович (около 1605- начало 1673), русский мореплаватель, первооткрыватель пролива между Азией и Америкой.
В 30-х гг. XVII в. Дежнёв отправился в Сибирь служить в казачьих отрядах. Известно, что после службы в Тобольске и Енисейске он в 1638 г. поступил в Якутский острог.
За девять лет пребывания в бассейне реки Яны, на Оймяконе и Колыме Дежнёв совершил много речных и сухопутных походов, а в 1642 г. по Индигирке впервые вышел в Ледовитый океан.
Мореход зарекомендовал себя как храбрый и удачливый воин. В 1641 г. с партией в 15 человек, доставлявшей ясак от реки Яны в Якутск, отбился от шайки из 40 разбойников. В 1642 г. во главе гарнизона из 13 человек успешно защитил Колымский острожек от нападения 500 юкагиров.
Летом 1647 г. Дежнёва направили в качестве представителя государственной власти в экспедицию Ф. А. Попова. Предполагалось проплыть по Ледовитому океану в земли к востоку от Колымы, торговать с чукчами, обратить местное население в русское подданство и собрать дань. Казаки также хотели найти морской путь к реке Анадыри, богатой промысловым зверем. 20 июня 1648 г. команда на семи ладьях вышла в море. Считается, что до пролива, отделяющего Азию от Америки, дошли только три судна. Они обогнули мыс, который Дежнёв назвал Большим Каменным Носом и который впоследствии (1898 г.) стал носить его имя. Там разбился ещё один корабль, а через некоторое время и оставшиеся два коча - Дежнёва и Попова - из-за бури потеряли друг друга из виду. Судно Дежнёва в октябре 1648 г. было выброшено на берег южнее устья Анадыри, и он с командой пришёл обратно к реке, где основал Анадырский острог.
Летом 1652 г. на Анадыри было обнаружено лежбище моржей, усеянное моржовыми клыками.
Именно за это, а не за открытие пролива между двумя континентами Дежнёв, приехав в Москву в 1664 г., получил титул казачьего атамана.
Английский путешественник Дж. Кук более чем через сто лет, не зная о походе Дежнёва, назвал пролив Беринговым.
В 1666 г. Дежнёв вернулся в Якутск и продолжал службу до 1671 г., после чего снова приехал в Москву, где и прожил до конца жизни.
Кроме мыса его именем названа бухта в Беринговом море.

 Античная литература презентация к уроку по литературе (9 класс) на тему Нет, не надейся приязнь заслужить
Античная литература презентация к уроку по литературе (9 класс) на тему Нет, не надейся приязнь заслужить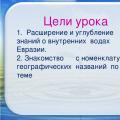 Презентация "внутренние воды евразии"
Презентация "внутренние воды евразии" Пять историй о людях, шагнувших в бессмертие
Пять историй о людях, шагнувших в бессмертие