Солнце мертвых. Иван Шмелёв и его “Солнце мёртвых”
Есть книги, чтение которых огорчает, наводит на грустные мысли. Одну из них в начале двадцатых годов прошлого столетия создал русский писатель Иван Шмелев. В этой статье - ее краткое содержание. «Солнце мертвых» - произведение человека редкого таланта и невероятно трагической судьбы.
История создания
Критики назвали «Солнце мертвых» одним из самых трагических литературных произведений за всю историю человечества. В каких условиях создавалась книга?
Спустя год после того, как покинул родину, он приступил к написанию эпопеи «Солнце мертвых». Тогда он не знал, что в Россию никогда не вернется. И все еще надеялся, что сын его жив. Сергей Шмелев был расстрелян без суда и следствия в 1921 году. Он стал одной из жертв «красного террора в Крыму». Одним из тех, кому писатель посвятил «Солнце мертвых» неосознанно. Потому как о судьбе сына Иван Шмелев узнал много лет спустя после написания этой страшной книги.
Утро
О чем первые главы книги? Непросто передать краткое содержание. «Солнце мертвых» начинается с описания утренней природы Крыма. Перед глазами автора - живописный горный пейзаж. Но крымский ландшафт лишь навевает тоску.
Здешние виноградники наполовину разорены. Дома, расположенные вблизи, опустели. Крымская земля пропитана кровью. Автор видит дачу своей знакомой. Некогда роскошный дом сейчас стоит словно осиротевший, с побитыми окнами, осыпанной побелкой.

«Что убивать ходят»: краткое содержание
«Солнце мертвых» - книга о голоде, страдании. В ней изображены муки, которые испытывают как взрослые, так и дети. Но самые страшные страницы книги Шмелева - те, где автор описывает превращение человека в убийцу.
Удивителен и ужасен портрет одного из героев «Солнца мертвых». Зовут этого персонажа Шурой, любит он играть вечерами на рояле, называет себя «соколом». Но с этой гордой и сильной птицей он не имеет ничего общего. Не зря автор сравнивает его со стервятником. Шура многих отправил на север или - еще хуже - на тот свет. Но он каждый день ест молочную кашу, музицирует, разъезжает на коне. В то время как люди вокруг умирают от голода.
Шура - один из тех, которых послали убивать. Вершить массовое уничтожение их отправили, как ни странно, ради высокой цели: достигнуть всеобщего счастья. Начинать, по их мнению, следовало с кровавой бойни. И те, что пришли убивать, выполнили свой долг. Ежедневно в подвалы Крыма отправлялись сотни человек. Днем их выводили на расстрел. Но, как оказалось, счастье, для которого потребовалось более ста тысяч жертв, было иллюзией. Трудовой люд, мечтающий занять барские места, вымирал от голода.

Про Бабу-ягу
Так называется одна из глав романа. Как предать ее краткое содержание? «Солнце мертвых» - произведение, представляющее собой рассуждения и наблюдения писателя. Страшные истории изложены беспристрастным языком. И оттого становятся еще ужаснее. Можно изложить вкратце отдельные истории, рассказанные Шмелевым. Но душевную опустошенность автора едва ли передаст краткое содержание. «Солнце мертвых» Шмелев написал тогда, когда уже не верил ни в свое будущее, ни в будущее России.
Недалеко от полуразрушенного дома, где обитает герой романа, находятся дачи - пустынные, холодные, запущенные. В одной из них жил отставной казначей - добрый рассеянный старичок. Жил он в доме с маленькой внучкой. Любил сидеть у берега, ловить бычков. А по утрам старичок отправлялся на рынок за свежими помидорами и брынзой. Однажды его остановили, отвезли в подвал и расстреляли. Вина казначея была в том, что он носил старую военную шинель. За это и был убит. Маленькая внучка сидела в пустой даче и плакала.

Как уже было сказано, одна из глав называется «Про Бабу-ягу». Вышеизложенная история о казначее и есть ее краткое содержание. «Солнце мертвых» Шмелев посвятил судьбам людей, которые пострадали от невидимой «железной метлы». В те времена в обиходе было немало странных и устрашающих метафор. «Помести Крым железной метлой» - фраза, которую вспоминает автор. И ему представляется огромная ведьма, уничтожающая тысячи людских жизней при помощи своего сказочного атрибута.
О чем рассказывает в последующих главах Иван Шмелев? «Солнце мертвых», краткое содержание которого изложено в статье, - словно крик души обреченного на гибель. Но автор о себе почти не говорит. «Солнце мертвых» - книга о России. Короткие трагические истории - детали большой и страшной картины.
«Творцы новой жизни… Откуда они?» - спрашивает писатель. И не находит ответа. Эти люди пришли, разграбили то, что созидалось столетиями. Они осквернили гробницы святых, разорвали саму память о Руси. Но прежде чем разрушать, следует научиться создавать. Уничтожители российских и православных традиций этого не знали, и потому были обречены, подобно своим жертвам, на верную гибель. Отсюда и название, которое дал книге Иван Шмелев - «Солнце мертвых».

Сюжет произведения можно передать таким образом: один из последних русских интеллигентов, находясь на грани смерти, наблюдает зарождение нового государства. Ему непонятны методы новой власти. Он никогда не впишется в этот строй. Но герой книги страдает не только от своей личной боли, но и оттого, что не понимает, для чего нужны разрушения, кровь и страдание детей. Как показала история, «Большой террор» имел для всего советского общества немало отрицательных последствий.
Борис Шишкин
В «Солнце мертвых» Шмелев рассказывает о судьбе своего собрата, молодого писателя Бориса Шишкина. Даже в годы террора этот человек мечтает о писательстве. Бумаги и чернил не найти. Свои книги он хочет посвятить чему-то светлому, чистому. Автор знает, что Шишкин необычайно талантлив. А еще, что в жизни этого молодого человека было столько горя, сколько хватило бы на сто жизней.
Шишкин служил в пехоте. Во время Первой мировой войны оказался на германском фронте. Попал в плен, где его пытали, морили голодом, но чудом остался жив. Домой он вернулся в другую страну. Поскольку Борис выбрал себе занятие по душе: подбирал с улицы детей-сирот. Но большевики его вскоре арестовали. Снова избежав смерти, Шишкин оказался в Крыму. На полуострове он, больной и умирающий от голода, все еще мечтал о том, что когда-нибудь он будет писать добрые, светлые рассказы для детей.
Конец концов
Так называется заключительная глава книги. «Когда кончатся эти смерти?» - задается вопросам автор. Умер соседский профессор. Дом его тут же был разграблен. По дороге герою встретилась женщина с умирающим ребенком. Жаловалась на судьбу. Тот не смог дослушать ее историю и убежал от матери умирающего младенца в свою виноградную балку.
Герой книги не боится смерти. Скорее, он ее ждет, полагая, что лишь она одна может избавить от мук. Доказательством тому служит фраза, сказанная автором в последней главе: «Когда же накроет камнем?» Тем не менее писатель понимает, что, несмотря на то, что сроки подошли, чаша еще не испита.
Что современные читатели думают о книге, которую в 1923 году написал Иван Шмелев?
«Солнце мертвых»: отзывы
Это произведение не относится к литературе, популярной среди современных читателей. Отзывов о ней немного. Книга наполнена пессимизмом, причину которого можно понять, зная обстоятельства жизни писателя. Кроме того, о страшных страницах в отечественной истории ему было известно не понаслышке. Те же, кто читал «Солнце мертвых», сходятся во мнении, что эту книгу читать тяжело, но необходимо.

Стоит ли читать?
Пересказать сюжет произведения почти невозможно. Можно лишь ответить на вопрос о том, какой теме посвятил Иван Шмелев «Солнце мертвых». Краткое содержание («Брифли» или других интернет-сайтов, содержащих пересказ художественных произведений) не дает полного представления об особенностях произведения, ставшего вершиной творчества писателя. Для того чтобы ответить на вопрос о том, стоит ли читать эту тяжелую книгу, можно вспомнить слова Томаса Манна. Немецкий писатель сказал о ней следующее: «Прочтите, если вам хватит смелости».
Иван Сергеевич Шмелев
Солнце мертвых
«Мы в Берлине! Неведомо для чего. Бежал от своего гopя. Тщетно… Мы с Олей разбиты душой и мыкаемся бесцельно… И даже впервые видимая заграница - не трогает… Мертвой душе свобода не нужна…
Итак, я, может быть, попаду в Париж. Потом увижу Гент, Остенде, Брюгге, затем Италия на один или два месяца. И - Москва! Смерть - в Москве. Может быть, в Крыму. Уеду умирать туда. Туда, да. Там у нас есть маленькая дачка. Там мы расстались с нашим бесценным, нашей радостью, нашей жизнью… - Сережей. - Так я любил его, так любил и так потерял страшно. О, если бы чудо! Чудо, чуда хочу! Кошмар это, что я в Берлине. Зачем? Ночь, за окном дождь, огни плачут… Почему мы здесь и одни, совсем одни, Юля! Одни. Пойми это! Бесцельные, ненужные. И это не сон, не искус, это будто бы жизнь. О, тяжко!..»
Так писал, вырвавшись из красной России за границу, Иван Сергеевич Шмелев своей любимой племяннице и душеприказчице Ю.А.Кутыриной в январе 1922 года.
Он еще не знал, что никогда не вернется на родину, еще таил надежду, что его единственный сын Сергей, расстрелянный во время большого террора конца 1920 - начала 1921 годов в Крыму, жив, еще не отошел от пережитого в маленькой, вымороженной и голодной Алуште. И еще не родился замысел названного «эпопеей» реквиема - «Солнца мертвых».
Эпопея создавалась в марте-сентябре 1923 года в Париже и у Буниных, в Грассе. На калейдоскоп страшных впечатлений должна была лечь траурная тень личной трагедии. В «Солнце мертвых» о погибшем сыне - ни слова, но именно глубокая человеческая боль, которую Шмелев не мог унять даже выстраданным словом, придает всему повествованию огромную масштабность. Многие знаменитые писатели, а среди них Томас Манн, Герхард Гауптман, Сельма Лагерлеф, считали «Солнце мертвых» самым сильным из созданного Шмелевым. Эмигрантская критика
Николай Кульман, Петр Пильский, Юлий Айхенвальд, Владимир Ладыженский, Александр Амфитеатров - встретили шмелевскую эпопею восторженными откликами. Но, пожалуй, наиболее проникновенно написал о «Солнце мертвых» прекрасный прозаик Иван Лукаш:
«Эта замечательная книга вышла в свет и хлынула, как откровение, на всю Европу, лихорадочно переводится на „большие“ языки…
Читал ее за полночь, задыхаясь.
О чем книга И. С. Шмелева?
О смерти русского человека и русской земли.
О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба.
О смерти русского солнца.
О смерти всей вселенной, - когда умерла Россия - о мертвом солнце мертвых…»
Несмотря на ужас пережитого, Шмелев против русского человека не озлобился, хотя жизнь «новую» проклял. Но и там, под чужим небом, желал упокоиться в России, в любимой им Москве, 3 июля 1959 года Юлия Александровна Кутырина писала автору этих строк:
«Важный вопрос для меня, как помочь мне - душеприказчице (по воле завещания Ивана Сергеевича, моего незабвенного дяди Вани) выполнить его волю: перевезти его прах и его жены в Москву, для успокоения рядом с могилой отца его в Донском монастыре…»
Творчество Шмелева, его память освещает солнце - вечно живое солнце русского страдания и русского подвижничества.
Олег Михайлов
За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка…
Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, - опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока - пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блестки жира и появляется пеночка…
Не надо думать о таких пустяках - чего они лезут в голову!
Итак, новое утро…
Да, сон я видел… странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.
Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога… Дворцы, сады… Тысячи комнат - не комнат, а зал роскошный из сказок Шехерезады - с люстрами в голубых огнях - огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов - нездешних. Я хожу и хожу по залам - ищу…
Кого я с великой мукой ищу - не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце… - подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду - цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие… Странных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они по залам в одеждах бледных - с икон как будто, заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит - я чую это щемящей болью, - что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они - вне жизни. Уже - нездешние… И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах…
За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка…
Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, – опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока – пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блестки жира и появляется пеночка…
Не надо думать о таких пустяках – чего они лезут в голову!
Итак, новое утро…
Да, сон я видел… странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.
Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога… Дворцы, сады… Тысячи комнат – не комнат, а залы роскошных из сказок Шехерезады – с люстрами в голубых огнях – огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов – нездешних. Я хожу и хожу по залам – ищу… Кого я с великой мукой ищу – не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце… – подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду – цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие… Странных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они по залам в одеждах бледных – с икон как будто, заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит – я чую это щемящей болью, – что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они – вне жизни. Уже – нездешние… И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах…
Я рад проснуться.
Конечно, она – Тамарка. Когда молоко вскипает… Не надо думать о молоке. Хлеб насущный? У нас на несколько дней муки… Она хорошо запрятана по щелям – теперь опасно держать открыто: придут ночью… На огородике помидоры – правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют… с десяток кукурузы, завязывается тыква… Довольно, не надо думать!..
Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балкам, рубить «кутюки» эти, дубовые корневища. Опять все то же!..
Да что такое, Тамарка у забора?.. Сопенье, похлестывание веток… обгладывает миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил… На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод… Сена у Вербы нет на горке, трава давно погорела – только обглоданный граб да камни. До поздней ночи нужно бродить Тамарке, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она бродит, бродит…
А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц – август. А день… Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вчера доносило благовест в городке… Я сорвал зеленый «кальвиль» – и вспомнил: Преображение! Стоял с яблоком в балке… принес и положил тихо на веранде. Преображение… Лежит «кальвиль» на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели…
Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убит!
Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье – милое мое прошлое, изодранное по чащам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кручам: заготовлять к зиме топливо. Зачем – не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном – стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда: а вдруг – точка на горизонте! У нас не будет никакой точки, вовек не будет. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть в огонь. В огне бывают видения… Прошлое вспыхивает и гаснет… Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло – можно и босиком или на деревяшках, а вот как задует от Чатырдага, да зарядят дожди… Тогда плохо ходить по балкам.
Я надеваю тряпье… Старьевщик посмеется над ним, в мешок запхает. Что понимают старьевщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять на гроши. Из человеческих костей наварят клею – для будущего, из крови настряпают «кубиков» для бульона… Раздолье теперь старьевщикам, обновителям жизни! Возят они по ней железными крюками.
Мои лохмотья… Последние годы жизни, последние дни – на них последняя ласка взгляда… Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам…
Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..
Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.
Только отпахнешь дверь – и хлынет в защуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшеюся в лесных щелях, сорвавшеюся с лугов, от Яйлы. Это – последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.
Милое утро, здравствуй!
В отлогой балке – корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок-груш, понизу виноградника, залиты алым глянцем. А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, понавешали на себя тяжелые бусы-грушки – марилуиз.
Я тревожно обыскиваю глазами… Целы! Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный.
Здравствуйте и вы, горы!
К морю – малютка гора Кастель, крепость над виноградниками, гремящими надалеко славой. Там и золотистый «сотерн» – светлая кровь горы, и густое «бордо», пахнущее сафьяном, и черносливом, и крымским солнцем! – кровь темная. Сторожит Кастель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В розовой шапке она теперь, понизу темная, вся – лесная.
Правее, дальше – крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный. Утром – розовый, к ночи – синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука… Сколько верст до него, а – близкий. Вытяни руку и коснешься: только перемахнуть долину внизу и взгорья, все – в садах, в виноградниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.
Правее еще – мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он; обычно – дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.
Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь…
Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все – нездешнее. Ночью они вернутся. Утро срывает сны: вот она, голая правда, – под ногами. Встречай же его молитвой! Оно открывает дали…
Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и – не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда, – под ногами.
Я знаю, что в виноградниках, под Кастелью, не будет винограда, что в белых домиках – пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни… Знаю, что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи, видная надалеко. Время придет – прочтется…
Я уже не гляжу на дали.
Смотрю через свою балку. Там – мои молодые миндали, пустырь за ними.
Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь – убитый. Черные рога виноградника: побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают морщины. Торчит перекати-поле, уже отсохшее: заскачет – только задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы цветет и сохнет, годы кидает вокруг медовую желтую «буздурхан», все дожидает смены. Не приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливает, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.
А вот – бельмо на глазу, калека. Когда-то – Ясная Горка, дачка учительницы екатеринославской. Стоит – кривится. Давно обобрали ее воры, побили стекла, и она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки – болтаются на гвоздях, у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие уксусные деревья.
Поддавшись безмерному горю утраты, Шмелев переносит чувства осиротевшего отца на свои общественные взгляды и создает пронизанные трагическим пафосом обреченности рассказы-памфлеты и памфлеты-повести - «Каменный век» (1924), «На пеньках» (1925), «Про одну старуху» (1925). В этом ряду, кажется, и «Солнце мертвых», произведение, которое сам автор назвал эпопеей. Но уже эта повесть по праву может быть названа одной из самых сильных вещей Шмелева. Вызвавшая восторженные отклики Т. Манна, А. Амфитеатрова, переведенная на многие языки, принесшая автору европейскую известность, она представляет собой как бы плач по России, трагический эпос о Гражданской войне. На фоне бесстрастной в своей красоте крымской природы страдает и гибнет все живое - птицы, животные, люди. Жестокая в своей правде, повесть «Солнце мертвых» написана с поэтической, дантовской мощью и наполнена глубоким гуманистическим смыслом. Она ставит вопрос вопросов о ценности личности в пору великих социальных катастроф, о безмерных и зачастую бессмысленных жертвах, принесенных Молоху Гражданской войной.
Глубже других оценивший творчество Шмелева философ И. А. Ильин сказал: «В Шмелеве-художнике скрыт мыслитель. Но мышление его остается всегда подземным и художественным: оно идет из чувства и облекается в образы. Это они, его герои, произносят эти глубоко прочувствованные афоризмы, полные крепкой и умной соли. Художник-мыслитель как бы ведает поддонный смысл описываемого события и чует, как зарождается мысль в его герое, как страдание родит в его душе некую глубокую и верную, миросозерцающую мудрость, заложенную в событии. Эти афоризмы выбрасываются из души, как бы воплем потрясенного сердца, именно в этот миг, когда глубина поднимается кверху силою чувства и когда расстояние между душевными пластами сокращается в мгновенном озарении. Шмелев показывает людей, страдающих в мире,- мире, лежащем в страстях, накапливающем их в себе и разряжающем их в форме страстных взрывов. И нам, захваченным ныне одним из этих исторических взрывов, Шмелев указует самые истоки и самую ткань нашей судьбы. „Что страх человеческий! Душу не расстреляешь!..” («Свет разума»). „Ну, а где правда-то настоящая, в каких государствах, я вас спрошу?! Не в законе правда, а в человеке” («Про одну старуху»). «Еще остались праведники. Я знаю их. Их немного. Их совсем мало. Они не поклонились соблазну, не тронули чужой нитки - и бьются в петле. Животворящий дух в них, и не поддаются они всесокрушающему камню» («Солнце мертвых»).
Как видно, против русского человека Шмелев не озлобился, хотя и многое в новой жизни проклял. И творчество в последние три десятилетия его жизни, безусловно, не может быть сведено к политическим взглядам писателя. О Шмелеве этой поры - о человеке и художнике - писал 7 июля 1959 г. автору этих строк Борис Зайцев:
«Писатель сильного темперамента, страстный, бурный, очень одаренный и подземно навсегда связанный с Россией, в частности с Москвой, а в Москве особенно - с Замоскворечьем. Он замоскворецким человеком остался и в Париже, ни с какого конца Запада принять не мог. Думаю, как и у Бунина, и у меня, наиболее зрелые его произведения написаны здесь. Лично я считаю лучшими его книгами „Лето Господне” и „Богомолье” - в них наиболее полно выразилась его стихия».
Иван Сергеевич Шмелев
Солнце мертвых
За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка…
Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, - опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока - пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блестки жира и появляется пеночка…
Не надо думать о таких пустяках - чего они лезут в голову!
Итак, новое утро…
Да, сон я видел… странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.
Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога… Дворцы, сады… Тысячи комнат - не комнат, а зал роскошный из сказок Шехерезады - с люстрами в голубых огнях - огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов - нездешних. Я хожу и хожу по залам - ищу…
Кого я с великой мукой ищу - не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце… - подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду - цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие… Странных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они по залам в одеждах бледных - с икон как будто, заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит - я чую это щемящей болью, - что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они - вне жизни. Уже - нездешние… И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах…
Я рад проснуться.
Конечно, она - Тамарка. Когда молоко вскипает… Не надо думать о молоке. Хлеб насущный? У нас на несколько дней муки… Она хорошо запрятана по щелям - теперь опасно держать открыто: придут ночью… На огородике помидоры - правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют… с десяток кукурузы, завязывается тыква… Довольно, не надо думать!..
Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балам, рубить «кутюки» эти, дубовые корневища. Опять все то же!..
Да что такое, Тамарка у забора!.. Сопенье, похлестывание веток… обгладывает миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил… На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод… Сена у Вербы нет на горке, трава давно погорела - только обглоданный граб да камни. До поздней ночи нужно бродить Тамарке, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она бродит, бродит…
А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц - август. А день… Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вчера доносило благовест в городке… Я сорвал зеленый «кальвиль» - и вспомнил: Преображение! Стоял с яблоком в балке… принес и положил тихо на веранде. Преображение… Лежит «кальвиль» на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели…
Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убит!
Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье - милое мое прошлое, изодранное по чащам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кручам: заготовлять к зиме топливо. Зачем - не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном - стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда: а вдруг - точка на горизонте! У нас не будет никакой точки, повек не будет. И вcе же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть в огонь. В огне бывают видения… Прошлое вспыхивает и гаснет… Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло - можно и босиком или на деревяшках, а вот как задует от Чатырдага, да зарядят дожди… Тогда плохо ходить по балкам.
Я надеваю тряпье… Старьевщик посмеется над ним, в мешок запхает. Что понимают старьевщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять на гроши. Из человеческих костей наварят клею - для будущего, из крови настряпают «кубиков» для бульона… Раздолье теперь старьевщикам, обновителям жизни! Возят они по ней железными крюками.
Мои лохмотья… Последние годы жизни, последние дни - на них последняя ласка взгляда… Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам…
Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..
Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.
Только отпахнешь дверь - и хлынет в защуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшеюся в лесных щелях, сорвавшеюся с лугов, от Яйлы. Это - последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.
Милое утро, здравствуй!
В отлогой балке - корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок-груш, понизу виноградника, залиты алым глянцем. А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, понавешали на себя тяжелые бусы-грушки - «мари-луиз».
Я тревожно обыскиваю глазами… Целы! Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный.
Здравствуйте и вы, горы!
К морю - малютка гора Кастель, крепость над виноградниками, гремящими надалеко славой. Там и золотистый «сотерн» - светлая кровь горы, и густое «бордо», пахнущее сафьяном и черносливом, и крымским солнцем! - кровь темная. Сторожит Кастель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В розовой шапке она теперь, понизу темная, вся - лесная.
Правее, дальше - крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный. Утром - розовый, к ночи - синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука… Сколько верст до него, а - близкий. Вытяни руку и коснешься: только перемахнуть долину внизу и взгорья, все - в садах, в виноградниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.
Правее еще - мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он; обычно - дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.
Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь…
Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все - нездешнее. Ночью они вернутся. Утро срывает сны: вот она, голая правда, - под ногами. Встречай же его молитвой! Оно открывает дали…
Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и - не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда, - под ногами.
Я знаю, что в виноградниках, под Кастелью, не будет винограда, что в белых домиках - пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни… Знаю, что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи, видная недалеко. Время придет - прочтется…
Я уже не гляжу на дали.
Смотрю через свою балку. Там - мои молодые миндали, пустырь за ними.
Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь - убитый. Черные рога виноградника: побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают морщины. Торчит перекати-поле, уже отсохшее: заскачет - только задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы цветет и сохнет, годы кидает вокруг медовую желтую «буздурхан», все дожидает смены. Не приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливает, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.
А вот - бельмо на глазу, калека. Когда-то - Ясная Горка, дачка учительницы екатеринославской. Стоит - кривится. Давно обобрали ее воры, побили стекла, и она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки - болтаются на гвоздях, у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие уксусные деревья.
Дачка свободна и бесхозяйна, - и ее захватил павлин.
Павлин… Бродяга-павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона: так не достать собакам.
Мой когда-то. Теперь - ничей, как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди - ничьи. Так и павлин - ничей.
 Белки: строение, свойства и функции Общие свойства белковых молекул
Белки: строение, свойства и функции Общие свойства белковых молекул Основаниями называются комплексные соединения, которые при диссоциации образуют в качестве анионов только гидроксид-ионоы Понятие об электронной орбитали и квантовые числа
Основаниями называются комплексные соединения, которые при диссоциации образуют в качестве анионов только гидроксид-ионоы Понятие об электронной орбитали и квантовые числа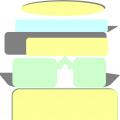 Химия (Строение атома) (презентация)
Химия (Строение атома) (презентация)